Глава четвертая
| Печаль цыганских кочевий,
о ключ заветный и светлый! Печаль заглохших истоков, печаль далеких рассветов! Федерико Гарсиа Лорка |
1
И снова Тополиный холм, розоватые, доцветающие олеандры в Саду поэтов, светлая келья, обитателем которой лиценциат Гарсиа Лорка твердо намерен оставаться и впредь. Никогда еще старушка Рези не была ему так мила, как теперь, когда она переживает трудные времена. Все ее враги зашевелились, наиболее усердствующие газеты требуют закрыть этот рассадник вольномыслия и нигилизма. Пошли инспекции, ревизии; совет попечителей, очищенный от либералов, заставляет директора отчитываться за каждый шаг.
Дон Альберто похаживает по Резиденции с видом коменданта осажденной крепости, того и гляди скомандует: «Закрыть ворота, поднять мосты!»
На тревожные взгляды студентов он отвечает бодрой улыбкой — ничего, дескать, как-нибудь отсидимся. Есть и у Резиденции влиятельные друзья, сам герцог Альба обещал поддержку, так что занимайтесь спокойно.
Но какое там спокойствие, если снизу, из столицы, ползут что ни день, словно туман с болота, все новые вести и слухи. Диктатор хозяйничает вовсю. Конституция фактически упразднена, кортесы уничтожены вместе с сенатом, муниципальные советы распущены. В каждый округ правительством назначается делегат, которому предписано обеспечивать неуклонное выполнение всех приказов Военной директории, укреплять гражданскую дисциплину, воспитывать население в духе патриотизма. Делегат этот должен быть офицером в чине не ниже капитана, а лучше всего — майором, ибо, как сказал Примо де Ривера, только майор обладает полностью сложившимся мировоззрением военного человека и хорошо развитым чувством субординации. Поговаривают, что в узком кругу диктатор добавил еще один довод: испанский майор-де уже не так молод, чтобы угрожать добродетели девушек, но в то же время и не так стар, чтобы потерять надежду дослужиться до генерала.
Если Примо де Ривера и вправду сказал это, то не иначе, как напрашиваясь на лестное возражение — сам-то он (не столько, впрочем, сам, сколько с помощью высокопоставленного дядюшки) был произведен в майоры двадцати пяти лет. Кроме того, доподлинно известно, что и в свои пятьдесят три года генерал Примо де Ривера отнюдь не перестал быть грозой прекрасного пола. О подвигах его по этой части, так же как и о его пристрастии к азартным играм и крепким напиткам, ходит немало рассказов.
Совсем недавно, в бытность капитан-генералом Валенсии, он пригласил к себе в театральную ложу молоденькую хористку и, не задернув даже занавесок, дал зрителям возможность полюбоваться спектаклем, куда более захватывающим, чем тот, что развертывался на сцене. Рассказывают, что и теперь по ночам генерала можно встретить в глухих кварталах Мадрида — изменив свою внешность, он бродит, как новый Гарун-аль-Рашид в поисках сильных ощущений, а замаскированная охрана следует поодаль. А вот последний анекдот: специальным распоряжением Военной директории содержателям кабаре под страхом крупного штрафа воспрещено демонстрировать на подмостках своих заведений любимое зрелище мадридских холостяков, или, как сказано в официальном тексте, «женские танцы в костюмах, оскорбляющих нравственность». Однако, будучи тонким ценителем этого жанра, сам генерал время от времени является в одно из кабаре и, уплатив сумму штрафа из собственного кармана, требует исполнения программы в неурезанном виде.
Диктатор осведомлен о подобных разговорах, но не настаивает на их пресечении — пусть знает страна, что ею управляет не какой-нибудь штафирка-интеллигент, а настоящий мужчина! Таким уж создал Мигеля Примо де Риверу господь бог, избравший его своим орудием. А в божественности своей миссии генерал нисколько не сомневается. Андалусский помещик, потомственный военный, он распоряжается Испанией с патриархальной простотой и чисто профессиональной решительностью. Ему ясно, что в бедствиях государства повинна только одна категория людей — так называемые политики: все они плуты, все безбожники, всех их нужно вывести на чистую воду и упрятать в тюрьму. Спасение страны — в единоначалии; отныне по воле монарха командует он один. Прочим ради собственного их блага надлежит повиноваться без рассуждений. Положитесь же без колебаний на счастливую звезду генерала, на легкую его руку, которая не подводила Примо де Риверу ни на полях сражений, ни за карточным столом! Он возвратит державе былое величие, сделает счастливыми всех испанцев — предпринимателей и рабочих, коммерсантов и батраков, а потом сложит с себя бремя власти и возвратится на любимое военное поприще.
Худощавое, мужественное лицо генерала улыбается с газетных страниц, заполненных его же пространными речами. Речи — невинная страсть диктатора, для утоления которой годится любой повод: дипломатический прием, церковный праздник, выпуск военной академии, открытие художественной выставки... Обо всем на свете он высказывается безапелляционно, как приличествует человеку, выражающему мнение всей испанской нации.
С такою же безапелляционностью генерал извещает нацию о том, что ее мнение по тому или иному вопросу коренным образом изменилось. Давно ли, скажем, — правда, еще до прихода к власти — он утверждал, что национальные интересы требуют вывода испанских войск из Марокко, а ныне заявляет, что Испания обязана любой ценой выполнить свой цивилизаторский долг перед народами Африки. Или на следующий день после переворота, находясь в Барселоне, не объяснялся ли он опять-таки от имени всей нации в любви каталонцам, не клялся ли, что служить Каталонии едва ли не главная его забота? Однако не прошло и недели, как возлюбленные каталонцы прочитали декрет, гласивший, что отныне всякое выступление против единства нации, в том числе и такое, как употребление каталонского языка в публичных выступлениях и официальных актах, будет караться самыми суровыми мерами вплоть до расстрела.
Перечитывая речи диктатора, можно было бы отметить немало примеров подобной непоследовательности. Но кому же, кроме презираемых им политиков, придет в голову перечитывать эти бесконечные речи?
Впрочем, первое время многие политики — не только монархисты, но и либералы и даже республиканцы — настроены вполне лояльно. Всех утомил традиционный испанский беспорядок. Не мечтал ли еще когда-то сам Коста, патриот и просветитель, о сильном диктаторе, который будет подобен Христу, изгнавшему менял из храма? Конечно, самоуверенный и грубоватый Примо де Ривера не очень-то похож на Христа, но как знать — быть может, именно такой правитель и нужен сейчас Испании? С помощью армии он избавит страну от застарелых язв, покончит с вопиющими злоупотреблениями, уймет расходившихся анархистов, а там, как он сам обещал, передаст власть гражданским лицам... «Общественное мнение с радостью восприняло падение людей и методов, которые не оправдали себя», — заявляет близкая к монархическим кругам газета «Эль Импарсиал», а либеральная «Эль Соль» сожалеет лишь о том, что переворот этот не совершился лет на двенадцать раньше.
А что говорят социалисты? Их руководители призывают народ не вмешиваться в происходящие события. Не оказывать поддержки военной диктатуре, но в то же время и не выступать против нее. Военную диктатуру такая позиция, по-видимому, устраивает: социалистической партии разрешено продолжать свою деятельность. Анархисты объявили о роспуске своих организаций, закрыли газеты. Одни только коммунисты зовут к сопротивлению, но их мало, их партия загнана в глубокое подполье.
Однако Примо де Ривера не довольствуется этим. Подлинное единоначалие невозможно без единомыслия, а единомыслие во вверенной ему стране воцарится лишь тогда, когда никто не сможет критиковать действия правительства. Разгон кортесов и сената мало что даст, пока сохранит свои права «третья палата», как называют в Испании прессу. Для нее необходим хороший намордник. С первых же дней диктатуры газетам и журналам запрещается публиковать какие бы то ни было материалы, способные нанести ущерб авторитету властей. В обеспечение этой меры вводится предварительная цензура печати.
Такого испанцы не припомнят. Не иметь права выругать свое правительство — это уж чересчур! Завсегдатаи кафе, оставленные без привычной пищи для споров, гневно потрясают кастрированными номерами газет. Интеллигенция ропщет — отныне даже ученый, написавший книгу по математике или философии, обязан представить ее на просмотр какому-то капитану или майору, от каприза которого будет зависеть, выйдет ли она в свет. А тут еще власти начали вмешиваться в университетские дела!
Постепенно разочарование ширится. Где обещанный порядок? Где обновление страны? Только нескончаемый поток декретов, законов, постановлений, проектов. Реорганизация армии и флота. Перестройка министерств. Отныне каждый чиновник должен быть обеспечен отдельным рабочим местом. Отныне Генеральное управление тюрем будет именоваться Генеральной инспекцией тюрем. Все та же нищета внизу, все та же продажность наверху. Лишившись и тех свобод, какие имели, испанцы ничего не получили взамен.
В частных разговорах Примо де Риверу начинают звать уменьшительным именем — Мигелито. Анекдоты о нем становятся все злее. Богатый материал для этих анекдотов дает поездка в Италию, совершенная диктатором вместе с Альфонсом XIII, — напыщенные, самодовольные речи, от произнесения которых генерал не удержался и за границей, его откровенное заискивание перед Муссолини, звание вождя испанского фашизма, пожалованное Примо де Ривере итальянским дуче, и церемониальный удар шпаги, закрепивший это пожалование.
Доходит и до открытых выступлений. Старый республиканец Родриго Сориано поднимается на кафедру мадридского Атенея, чтобы прочесть лекцию о борьбе Испании за свободу. Коснувшись истории, нарисовав портреты различных тиранов, лектор переходит к современности. Образ правления, установившийся ныне в стране, он характеризует как диктатуру легкомысленного андалусского «сеньорите», отказывая последнему даже в сходстве с Муссолини. Уж если искать в данном случае сходства с кем-нибудь, заявляет Сориано под одобрительный смех аудитории, то разве что с цирковым импресарио Барнумом — прославленным мастером рекламы и помпезных зрелищ. И заканчивает призывом отстаивать независимость Атенея — последнего убежища свободной мысли в Испании, а если правительство осмелится назначить и сюда своих делегатов — захлопнуть дверь перед ними!
Донесение о лекции Сориано (правда, Барнума оттуда на всякий случай вычеркнули) не очень беспокоит диктатора. Интеллигенты могут сколько угодно сотрясать своими речами воздух Атенея — лишенные возможности публиковать эти речи, они ему не опасны. Генерала больше заботит ненадежность тех, в ком он должен быть уверен, как в офицерах перед боем, — правительственных чиновников, собственных его слуг. Некоторые из них оказываются вдруг способными на прямое неповиновение.
Однажды кто-то из приятелей, в компании которых Примо де Ривера имеет обыкновение отдыхать от государственных трудов, обращается к нему с пустяковой просьбой. Помнит ли он Каобу? Еще бы не помнить! И генерал целует кончики пальцев, представив себе носительницу этого экзотического прозвища — темпераментную особу не слишком строгих правил с роскошными волосами цвета красного дерева. Так вот, у малютки Каобы — крупные неприятности. Арестована ее сестра по обвинению в торговле кокаином, да и против самой Каобиты возбужден процесс. Наследники старого богача, потратившего на нее уже добрую половину своего состояния, заявили, будто бы она искусственно удерживает старика во власти своих чар, разрушая его здоровье посредством все того же кокаина.
Какая чепуха! Генерал, черт побери, по собственному опыту знает, что чары Каобы не нуждаются в помощи каких-то там снадобий. У наследников есть все основания беспокоиться, но беззакония мы не потерпим! Кто ведет это дело? Судья Прендес? Отлично! Итак, сеньору Прендесу: с получением сего немедленно освободить из-под стражи... и прекратить дело.
Кто бы мог ожидать, что судья Прендес откажется выполнить приказ диктатора! Он позволяет себе дерзко ответить, что правосудие не нуждается в указаниях. Более того, он заявляет, что письмо Примо де Риверы будет приобщено к материалам процесса. Да это бунт! Генерал приглашает к себе главу всего испанского суда — президента Верховного трибунала, сеньора Муньоса. Не находит ли сеньор Муньос, что дальнейшее пребывание некоего Прендеса на посту судьи способно только подорвать авторитет правосудия?
Ах, он не находит этого? Он считает даже, что его подчиненный действовал честно и беспристрастно, обнаружив примерное мужество и неподкупность? Что ж, этого следовало ожидать: рыба гниет с головы. Сеньор Муньос, его королевское величество соблаговолил удовлетворить ваше прошение об отставке. Прошение представьте немедленно. Мы вам покажем, кто командует в Испании!
Скандал получает огласку. Мадридцы, верные себе, отвечают новым взрывом острот и каламбуров, в которых на разные лады обыгрываются красное дерево — каоба, краснодеревщики, кокаин... Во всех кафе смакуют пикантные подробности дружбы бравого диктатора с медноволосой потаскушкой, благо сама Каоба, празднуя в казино свою победу, во всеуслышание делилась этими подробностями с друзьями.
Не все, однако, склонны отшучиваться. Над кем смеемся — не над собой ли? Неугомонный Родриго Сориано снова выступает с речью в Атенее, заявляя, что пришла пора покинуть созерцательную позицию. «Мы будем поистине смешны, — восклицает он, — если станем и далее заниматься здесь изучением того, что писали греческие философы против своих тиранов, в то время как сегодняшние тираны ломятся в наш дом!» Подробно разобрав историю с Каобой, которую он сравнивает с Далилой и Мессалиной, Сориано заявляет, что если Испания стерпит и это оскорбление, то стыдно будет называться испанцем.
Речь эта — собственно, не так даже речь, как донесение о том, что толпа молодежи, запрудившая улицу перед Атенеем, бурно приветствовала оратора при выходе, — кладет конец терпению генерала. Правительственная «Гасета» публикует декрет о высылке сеньора Сориано на Канарские острова «за тяжкое оскорбление, нанесенное одной достойной сеньорите». Его под охраной усаживают в андалусский экспресс. Попытки собравшихся на вокзале превратить его проводы в демонстрацию пресечены полицией, кое-кто задержан. Арестованы и участники шутовского шествия, которые направились было с зажженными свечами в руках к известному дому свиданий, посещаемому, по слухам, Каобой, — умолять некоронованную королеву Испании о смягчении участи Родриго Сориано.
Все эти меры приносят некоторые плоды. Никто больше не отваживается на дерзкое выступление в Атенее; мадридцы делаются сдержаннее в разговорах и начинают остерегаться чересчур внимательных слушателей. Как вдруг по столице разносится слух о том, что в аргентинском журнале «Носотрос» напечатано письмо Мигеля де Унамуно, ректора университета в Саламанке, а в том письме предана гласности постыдная история с Каобой и о самом диктаторе такое сказано!
Увидеть аргентинский журнал собственными глазами удается немногим. Но кто же не знает про неукротимый характер и ядовитый язык старого саламанкского отшельника, который самого бога потребует к ответу, если сочтет, что тот не прав! Уж он-то нашел, что сказать, можно не сомневаться. Весть о том, что хоть словечко правды вырвалось за рубеж, действует ободряюще. Вновь развязываются языки, повсюду открыто обсуждают поединок «Мигель против Мигелито», спорят о том, каков будет ответный удар генерала.
Вопрос этот особенно волнует Резиденцию. Для всех, кто живет здесь, Унамуно — это не только имя, вытисненное на книжных корешках, не только один из портретов в галерее знаменитых мыслителей Испании. Для них это и попросту хороший знакомый, шестидесятилетний человек с головой старого филина и юношески порывистыми движениями, страстный спорщик, готовый во всякое время схватиться с любым собеседником, будь то его друг Альберто Хименес или какой-нибудь зеленый новичок. Приезжая в Мадрид, дон Мигель почти все свободное время проводит на Тополином холме, окруженный молодыми людьми. Давно ли, кажется, стоял он среди них в последний раз — любовался городом, расстилающимся внизу, рассуждал о глубочайшем различии между Саламанкой — созданием каменотесов — и Мадридом, который весь почти сложен из кирпича, сотворен, как человек, из глины... Неужели эти солдафоны посмеют расправиться с Унамуно?
Дон Альберто уверен, что не посмеют. Слишком велик авторитет Мигеля де Унамуно не только в Испании, но и за ее пределами, — Военная директория не захочет скомпрометировать себя в глазах цивилизованного мира. А кроме того, власти уже поставлены в известность, что возмутившее их письмо носило частный характер и в печать попало без ведома автора.
И все же наступает тот омерзительный февральский день, когда директор Резиденции одним из первых в столице узнает, что накануне Мигелито нанес ответный удар. Прославленный друг сеньора Хименеса грубо оторван от семейного очага, от всех своих трудов, от университета и отправлен в ссылку на остров Фуэртевентура.
Как не хочется дону Альберто возвращаться с этой новостью к себе на Тополиный холм, к ожидающим его студентам! Несмотря на холод, на слабый и все-таки до костей пробирающий ветер — тот самый, что «свечи не задует, а человека убьет», — он плетется в гору пешком, то и дело останавливаясь, безотчетно стремясь оттянуть неприятный момент. Но вот из побледневшей зелени выглядывают знакомые кирпичные корпуса. А вот и его питомцы: сбившись в кучу, стоят они поперек дорожки, вглядываются в приближающегося директора.
Ну, конечно, все здесь — и пылкий Бунюэль, и весельчак Пепин Бельо (как непривычно видеть его серьезным!), и ангел-хранитель компании, степенный Морено Вилья... Смотрите-ка, даже Гарсиа Лорка с ними, вот уж не поверил бы, что этот сибарит способен покинуть свою комнату в такую погоду! Подойдя вплотную, дон Альберто ждет расспросов, но те молчат. Ясно, всё уже знают сами. Так чего же они хотят от него? Что означает это непонятное, доверчивое и вместе с тем нетерпеливое выражение, сообщающее минутное сходство их лицам?
Легкий холодок пробегает вдруг у него по спине. А ведь, пожалуй, скажи он сейчас одно слово, дай только знак — и эти молодые люди поднимут всю Резиденцию, пойдут куда угодно: на улицы, на площади, под копыта жандармских лошадей! Стоит лишь начать, как присоединится университет, а там и коллежи...
Но чем все это кончится? Или у полиции не хватит сил расправиться с безоружной молодежью? Власти, наверно, будут даже рады — это даст им повод окончательно прибрать к рукам все учебные заведения, закрыть Атеней, до отказа завинтить пресс. А что будет тогда? Что станется с Резиденцией, с его Телемской обителью, с последним, быть может, очагом свободного образования в стране? Нет, он не позволит высоким, но бесполезным чувствам увлечь себя. Он обязан быть мудрым... Как же, однако, горька эта мудрость!
И впервые в жизни Альберто Хименес опускает глаза перед своими питомцами.
2
Ах, да какое ему в конце концов дело до водевильных похождений диктатора, до угодливой газетной трескотни, до приглушенных, с оглядкой через плечо, разговоров о свободе? Его свобода — поэзия.
Когда еще раньше случалось ему столько писать? Книга о канте хондо растет, словно сказочное дерево, стремительно выбрасывая побег за побегом, — иные из них уходят далеко от ствола, пускают собственные корни. В нижнем ящике шкафа — друзья именуют его подвалом, где Федерико изволит выдерживать свои вина, — прибавилось еще несколько школьных папок с тщательно завязанными тесемками. На одной папке выведено «Canciones» — «Песни», остальные пока без надписей.
Начиналось с утра, с самых первых минут, когда рассыпается беззаконная логика сна, а трезвая дневная логика не спешит вступить в свои права. Федерико любил эти минуты не бескорыстно. Лежа с закрытыми глазами, он будто со стороны следил, как оживают в сознании слова — еще не слипшиеся в привычные сочетания, самостоятельные крохотные миры, — как они там блуждают, сближаются, повинуясь взаимному притяжению, и вдруг, столкнувшись, высекают неожиданный образ. Случалось, такой образ, как взрыв, прокладывал путь застрявшей накануне строке, а то и давал новый поворот всему стихотворению. Боясь положиться на память, Федерико тянулся за листком, целую ночь караулившим его на стуле возле кровати, — тут-то работа и брала его в плен. Иногда он так и оставался в постели весь день до заключительной строки, до тех пор, пока не пририсовывал в честь окончания затейливую виньетку.
Но случалось просыпаться и по-иному, когда, подброшенный среди ночи внезапным толчком изнутри, он подолгу лежал в темноте, не решаясь протянуть руку, чтобы не наткнуться на стены, вплотную обступившие его со всех сторон, не коснуться потолка, гробовой крышкой нависшего над самым лицом. Постепенно сердце успокаивалось, но тяжелое чувство не проходило. Враждебная, несущая уничтожение, неумолимая сила была где-то здесь, рядом; таясь по углам, она ждала лишь удобного случая, чтобы снова двинуться на него — неотвратимо и слепо, как океанский прилив. Мучительно было сознавать, что беспомощен. Еще сильнее мучила почему-то безыменность, безликость этой равнодушной стихии.
Впрочем, с ее безликостью-то Федерико знал, как справиться. На помощь, воображение! В предутренней мгле проступали знакомые, ненавистные черты. Жестокость, насилие, смерть — все, чем был он когда-либо ранен, олицетворялось, становилось картинами, проплывало перед глазами. Блистали, как рыбы, навахи убийц. Алая кровь, запекшаяся на груди, превращалась в темную розу. Черный конь уносил мертвого всадника. Другие всадники, в черных плащах, в клеенчатых треуголках ехали по дороге, мерно покачивая тяжелыми, будто свинцом налитыми черепами... Сразу же начинали сами собой шевелиться губы. Тоска, казавшаяся невыразимой, облекалась в слова, и, как в детстве когда-то, названное переставало томить. Он больше не был беспомощен. Глубоко, облегченно вздохнув, он переворачивал подушку, вытягивался, закрывал покрепче глаза.
Сон, однако, не шел. Теперь не хотела униматься та добрая сила, которая помогла Федерико одержать победу над черными призраками. Она рвалась наружу, звала поделиться ею с другими. Она, эта сила, будила в нем сокровенное чувство, которым сама же и была рождена, — пронзительное до боли чувство родства с людьми, с близкими и неведомыми собратьями. С тем, кто лежит в этот час, как он, напряженно всматриваясь во тьму, и с тем, кого жандармы ведут в тюрьму, скрутив за спиною локти. С матерями, оплакивающими сыновей, и с девушками, которым не дождаться женихов. С голодными бедняками, с цыганами, евреями, маврами. Но всегда не с победителями, а с побежденными, гонимыми.
Эти люди были связаны с ним целой сетью невидимых жил, по которым в сердце его проникали их страхи и страсти, по которым и сам Федерико мог всем своим существом перелиться в любого из них, перевоплотиться в него. Стоило лишь дать себе волю, стоило только вспомнить — ну, хоть раненого контрабандиста из песни, давно уже не дававшей ему покоя, — как из привычного гула, исподволь возникшего в глубине, опять выделялись слова. Словно ветер гранадской долины проносился по комнате, оставляя на губах привкус полыни и мяты, и, зная, что заснуть все равно не удастся, Федерико вставал, зажигал свет, присаживался к столу.
Контрабандист шел с моря; от самой Кабры пробирался он горными тропами в родную долину — туда, где его ожидает возлюбленная, ночи напролет глядя на дорогу с плоской крыши отцовского дома. Истекая кровью, преследуемый по пятам, он подходит к заветной двери. Предрассветный час. Кристалликами инея мерцают и переливаются крупные, низко повисшие звезды. Ночные тени растворяются в стелющемся тумане. Деревья ежатся на ветру. На фоне побледневшего неба отчетливо вырисовывается гора — как дикая кошка, щетинится она всеми колючками своих агав.
Конечно, гора эта — Сакро-Монте, да и дом знаком Федерико — на окраине Альбайсина есть точно такой, с такою же плоской кровлей, обнесенной решеткой, с водоемом во внутреннем дворике. Перегнувшись через решетку, девушка должна была видеть свое отражение в зеленоватой воде, а вода, пронизанная светом луны, отбрасывала на смуглое лицо зеленые блики.
Память подсказывала подробности, воображение их развивало. Повседневность сплеталась с легендой, собственные, выношенные образы перемешивались с народными, а старинный романсовый стих подхватывал все это, нанизывал на стальную струну сквозной рифмы, сплавлял воедино и нес, как река. Да, тут нужен был именно романс с его естественным, неторопливым течением и крутыми переменами в судьбах героев.
Федерико строил этот романс, как ласточка лепит гнездо, руководствуясь скорее инстинктом, чем планом. Ход событий не был известен заранее, он порождался людьми, в которых вселялся автор, — раненым контрабандистом, отцом девушки, выходившим навстречу запоздалому гостю. Федерико-пришелец и Федерико-хозяин (все потерявший, раздавленный горем, о котором еще не знает тот, другой) вели разговор, изъясняясь иносказательно, согласно законам песни:
— Сосед, на ее каморку
коня своего я сменял бы,
на зеркало — сбрую с седлом,
мой нож — на ее одеяло.
Сосед, я пришел весь в крови
из Кабры, с гор, с перевала.— Будь воля моя, паренек,
давно состоялась бы мена.
Но я-то уже не я,
и не мои эти стены.— Сосед, я хочу умереть
в своей кровати, как должно:
на прутьях стальных, с простынями
голландскими, если можно.
Ты разве не видишь, что рана
раскрыла мне грудь до горла?— На белой груди твоей
три сотни розанов черных,
сочится и пахнет кровь,
кушак твой весь в красной пене.
Но я-то уже не я,
и не мои эти стены.
Но где же девушка, что с ней? Понять это — значило самому превратиться в нее. Перенестись на плоскую крышу, где провела она столько ночей, ощутить на лице прохладу, идущую снизу, от водоема... Задохнуться от тоски по любимому, переполниться исступленной жаждой любви — той жаждой, когда ничего уже не видишь, не слышишь, — и в какой-то миг, будто в сомнамбулическом сне, шагнуть через решетку в зеленый мир своих видений, в свою зеленую сказку.
Зеленую — verde — это слово не шло у Федерико из головы. Оно буйной весенней травой пробивалось в каждой строке, разрасталось, тянуло за собой луга, и лужайки, и нежные, ранние всходы, и свежесрубленное, пронизанное соками дерево, и терпкий вкус молодого вина. Оно развертывало перед глазами целую радугу своих оттенков; от цвета морской воды — verdemar, до горной зелени, ярь-медянки — verdemontaña. Просыпались дремавшие в этих названиях море — mar — и гора — montaña, из них возникали новые картины, перекликавшиеся со всем, что было в романсе, говорившие о свободе, о молодости...
Покачивалось на поверхности водоема бездыханное тело девушки. И уже грохотали в дверь кулаками пьяные гражданские гвардейцы, празднуя свою победу. А поэзия не умирала, и как знак ее, как вестник бессмертной жизни струилась через романс неистребимая зелень — не выцветая, не умолкая, вновь и вновь вскипая в строках припева:
Ве́рде ке те кье́ро ве́рде.
Ве́рде вье́нто. Ве́рдес ра́мас.
Эль ба́рко со́бре ла ма́р.
И эль каба́льо эн ла монта́нья.
Такою я и люблю тебя — в зелень одетой. Зеленый ветер. Зеленые ветви. Корабль на море. И конь на горе.
3
А вот романс о Мариане Пинеде не получался. Федерико знал уже об этой женщине столько, что хватило бы на целую книгу. Любой эпизод ее жизни просился в стихи. Например, вот такой: Мариана устраивает побег Альвареса де Сотомайора, приговоренного к смерти. Ей помогает какая-то комедиантка, раздобывшая в костюмерной своего бродячего театра монашескую одежду и накладную бороду. Мариана — «бой-баба», как назвал ее один из историков, — ухитряется передать это все заключенному во время свидания, и тот, переодевшись, с распятием и четками в руках, принятый всеми за исповедника, беспрепятственно покидает тюрьму.
Или такой: арестованная в своем доме Мариана не теряет присутствия духа и пытается скрыться. Конвоировавший ее стражник показал на суде, что преступница уговаривала его бежать вместе с нею, обещая «сделать на всю жизнь счастливым».
Из материалов процесса, из ученых трудов, из мемуаров вырастал образ мужественной героини, не ведавшей страха, недоступной человеческим слабостям, готовой на все во имя любви к свободе. Такой Мариане пошли бы рыцарские доспехи, ее подвиги заслуживали самых пламенных строф, но писать о ней не хотелось... И только старая, знакомая с детства песенка спорила с этим образом. В печальном ее напеве, в наивных словах, в уменьшительном «Марьянита» было что-то, говорившее об иной Мариане Пинеде — более слабой, более несчастной, более человечной.
Снова и снова листал он страницы, ища подтверждения смутным догадкам. Кое-что обнаруживалось. Сохраненный устной традицией слух о том, что Рамон Педроса, королевский судья, пославший на казнь Мариану, был влюблен в нее и предлагал ей купить жизнь бесчестьем, показался Федерико достовернее документов. Одна подробность особенно его поразила: оказывается, друзья-либералы собирались спасти Мариану в последний момент, вырвав ее прямо на площади из рук палачей, — и она знала об этом. Сочувствие народа жертве Педросы позволяло надеяться на успех дерзкого предприятия. Друзья действительно явились на площадь; Мариана, поднявшись на эшафот, увидела кругом знакомые лица... Однако в решительную минуту — историки так и не выяснили почему — ни один заговорщик не тронулся с места, и казнь состоялась.
Какое беспредельное одиночество должна была она ощутить в эту минуту! Что дало ей силы пойти на смерть? Вера? — спрашивал себя Федерико, и Мариана Пинеда представлялась ему в образе святой Олалии-мученицы с поднятыми к небу, полными слез глазами, озаренная необычайным светом, какой бывает только во сне. Или другая, земная страсть? И он видел ее женщиной из канте хондо, одинокой Солеа, завернувшейся в черный плащ: весь мир ей кажется крохотным, а сердце свое — огромным...
Промелькнула короткая мадридская весна. На «Пласа де Торос» открылся новый сезон боя быков. Его величество Альфонс XIII показал отличные результаты, стреляя по голубям в королевском парке Каса дель Кампо. Примо де Ривера торжественно объявил о создании массовой политической партии «Патриотический союз», в которую могут и должны войти все испанцы, стоящие за порядок и справедливость и придерживающиеся здоровых идей. Мигель де Унамуно бежал из ссылки во Францию и принялся метать оттуда в диктатора ядовитые стрелы своих статей. Федерико бродил по улицам, рылся в библиотеках, веселился с друзьями на загородных гуляньях — вербенах; папки в нижнем ящике шкафа увеличивались в объеме, а Мариана Пинеда все не оживала.
Как-то Морено Вилья, интересовавшийся решительно всем на свете, зашел к Федерико со старинным «Наставлением по цветоводству», заложенным на главе «О розах». Каких только сортов не бывает! Например, Rosa declinata, склоненная, с опущенными бутонами, и Rosa inermis — безоружная, без шипов, и Mirtifolia — миртолистная, ее родина — Бельгия, и Rosa sulfurata — сернистая, что светится в темноте. Но самая редкая — ты только послушай! — Rosa mutabilis, то есть «изменчивая, меняющаяся». Она цветет лишь один день — утром красная, к вечеру становится белой, а ночью отцветает.
В самом деле, это было занятно и легко укладывалось в стихи:
Когда раскрывается утром,
она, словно кровь, красна.
Под вечер она белеет,
как пена, как соль, как волна.
Когда же ночь наступает,
тогда опадает она.
Чересчур легко! — верный признак того, что скользнул по поверхности, а главного не уловил, не ухватил словами. Что же это за главное, скрытое в глубине? Чего она хочет от него, эта роза, Rosa mutabilis?
Как всегда в таких случаях, он чувствовал, что раздваивается: один Федерико слушал приятеля, продолжавшего чтение, кивал, удивлялся, а другой в это время шел по следам слова «роза», пробирался внутриязыковыми ходами в тайники памяти, пока не заныла в нем какая-то давняя ссадина, пока не зарозовело перед внутренним его зрением старомодное платье увядшей женщины, подруги доньи Висенты... в саду, где всхлипывала вода... в день, когда он впервые увидел Гранаду... Как же звали ту женщину — уж не Росита ли? Или Ампаро? Или Мария? Как бы ни звали, у нее было еще одно имя: soltera — старая дева.
Прежде чем Морено Вилья захлопнул книгу, Федерико успел прожить целую жизнь — томительную и бесплодную, прошедшую, как один, растянувшийся на десятилетия день, в течение которого распускается, вянет и опадает прекрасный и бесполезный оранжерейный цветок. План пьесы о донье Росите, девице, — да, пьесы, потому что только театр мог сделать видимым главное действующее лицо этой истории — неумолимое время! — сложился почти мгновенно, стал обрастать подробностями.
Нет, сейчас он не мог позволить себе и эту работу, не разделавшись с прежними замыслами, которые и без того уже разрывали его на части! Усилием воли он заставил донью Роситу отступить, погрузиться в те глубины, откуда сам ее вызвал.
Казалось бы, какое отношение имело все это к Мариане Пинеде? Что общего между ней и старой девой Роситой, кроме того, что обе жили в Гранаде? А может быть, не так уж мало в том общего: жить в Гранаде, любить, страдать? Как бы то ни было, Мариана с тех пор сделалась для Федерико понятней и ближе. Взращивая ее в себе, он все явственней ощущал силу, правившую ее жизнью, все отчетливей сознавал, что имя этой силе — любовь.
Просто любовь. Та, что движет горами и воскрешает мертвых. Историки и поэты изображали Мариану библейской Юдифью, принесшей себя на алтарь отечества, а его Мариана будет сестрой Джульетты, нежной и страстной андалуской, для которой в любимом сосредоточено все — отечество, мир, жизнь. И Свобода в его романсе будет не отвлеченной идеей, не аллегорической фигурой, не черными буквами на белой бумаге, а хрупкой женщиной, идущей на смерть во имя любви.
Окончательное решение созрело уже летом, в Гранаде. Уединившись в своей комнате наверху, он часами перебирал подаренную доном Антонио, библиотекарем, коллекцию старых наивных эстампов, раскрашенных синей, зеленой, желтой, розовой и небесно-голубой краской. На одном из эстампов, изображавшем давно снесенную мавританскую арку Лас Кучарас, а за ней — площадь Бибаррамбла, какою была она лет сто назад, Федерико всякий раз задерживался подолгу. Там виднелся дом, расписанный по моде далекого времени гирляндами плодов и морскими сценами. Федерико никогда не бывал в этом доме, а между тем он мог бы поклясться, что знает, как выглядит каждая комната в нем. Белые стены, ветки искусственных роз над комодом, потолок увешан плодами айвы...
Грустный осенний запах айвы доносился снизу, где хозяйничала донья Висента, и этот запах каким-то образом соединялся с рисунком, с детской песенкой, вызванивавшей в памяти: «Что за горестный день в Гранаде...» Как во сне, он перешагивал через желтоватую рамку эстампа — и оказывался в доме Марианы Пинеды. Он сам был Марианой, он вышивал запретное знамя, ждал вестей, изнывал от тревоги и страха.
Что сделает эта женщина, услышав знакомые голоса? Поспешно отложит шитье, прикроет знамя куском материи... Вот таким жестом она поправит волосы, воткнет за ухо большую красную розу. Вот так — легко и стремительно — она выйдет в гостиную навстречу подругам.
Обозначались люди вокруг Марианы, завязывался разговор, возникало действие. Теперь оставалось только вслушиваться и записывать. Романс становился пьесой, это выходило как бы само собой.
И все-таки это был романс. Не трагедия, не героическая драма — народный романс в трех эстампах. Никаких фанфар и литавр! Плач воды и чистые детские голоса.
4
— Федерико выехал из Гранады, завтра он будет здесь!
Глиняные горшки из Талаверы, украшающие стены столовой, едва не трескаются от радостных криков. Новость мгновенно распространяется по Резиденции, стаей записок разлетается по аудиториям. Лентяи со вздохом облегчения откладывают книги. Прилежные с удвоенной энергией углубляются в занятия, чтобы высвободить побольше времени для ближайших вечеров.

Федерико за роялем. Дружеский шарж Хосе Морено Вильи
Назавтра на Тополином холме царит полупраздничное настроение, похожее на то, какое бывает перед каникулами, — даром что октябрь на носу. Взрывы смеха перекатываются из комнаты в комнату, отмечая путь Федерико. В разгар лекционных часов вопреки запрету директора из музыкальной гостиной доносятся звуки рояля и хрипловатый мальчишеский голос, но самый строгий профессор, вместо того чтобы прийти в ярость, замолкает, прислушивается и видит на лицах студентов отражение собственной улыбки. И всем, даже снедаемому заботами дону Альберто, небо в этот день почему-то кажется голубее, воздух — прозрачнее, а запах цветов — настойчивее, чем обычно.
Когда же наступает вечер, чуть не вся Резиденция «погружается в поэтическое опьянение», как выразится впоследствии один из очевидцев. Федерико — повсюду: в столовой, в саду, в гостиной. Там он только что, завернувшись в платок, изображал кухарку, пришедшую с рынка и громко жалующуюся на дороговизну своей глуховатой хозяйке. Здесь представил в лицах целую сцену — заутреню в крохотной деревенской церкви: шаги и покашливание прихожанок, явившихся первыми, начало службы, бормотанье молящихся, прерванное внезапным появлением мальчишки, священникова сына, который, просунув голову в дверь, во всеуслышание сообщает отцу, что корова отелилась! Вот он встретил Морено Вилью и, расхвалив последнюю элегию друга, тут же начинает импровизировать пародию на нее. Громче всех хохочет автор элегии, а Федерико уже уселся за рояль, он обращается к окружающим: ну-ка, в каких краях поют эту песню, кто знает? Аккомпанируя себе, он запевает голосом, исполненным горестного предчувствия:
Парни из Монлеона
пахать отправились рано
— ай-яй ! —
пахать отправились рано...
— Не в Саламанке ли? — говорит кто-нибудь нерешительно.
— Да, сеньор! — благосклонно кивает ему Федерико, не отрывая пальцев от клавиш, и продолжает на тот же мотив:
Я нашел ее в песеннике
дона Дамасо Ледесмы
— ай-яй! —
дона Дамасо Ледесмы...
И — новые песни, выдумки, розыгрыши, вовлекающие в свой круговорот всех, кто тут есть. Подмывающее чувство легкости и свободы охватывает людей — такое приходит к актерам на сцене в минуты подъема, — когда все, что ни скажешь, все, что ни сделаешь, выходит верно и хорошо. В заразительной атмосфере игры сами собой рождаются точные, хлесткие реплики; их подхватывают, отражают, словно перебрасываясь невидимым мячиком; слова и движения оказываются подчиненными некоему единому ритму, источник которого — этот вот оливково-смуглый, белозубый гранадец. Иным из присутствующих и впрямь начинает казаться, что они — персонажи пьесы, которую на ходу сочиняет Федерико Гарсиа Лорка, сам же ставит ее и сам играет главную роль.
Что ж, доля истины в этом есть. Ибо то, что для остальных развлечение, для Федерико и продолжение работы, владеющей им безраздельно, идущей в нем день и ночь. Он нуждается в этой игре, которая питается его вымыслами и, в свою очередь, питает их. Он дурачится, веселится, распевает и в то же самое время жадно схватывает все, что можно подбросить в огонь, гудящий внутри, — слова, жесты, выражение лиц, собственные мимолетные мысли... В чем секрет обаяния Федерико, странной власти его над людьми в такие минуты, как не в этой стихии, которая, не умещаясь внутри него, выплескивается наружу, захлестывает окружающих? И не в счастье ли ощутить себя — пусть на мгновенье! — соучастником творчества заключается разгадка необыкновенного чувства, испытанного всяким, кто провел с Федерико хотя бы вечер!
В один из таких вечеров является в Резиденцию молодой художник Рафаэль Альберти. Федерико встречает его, как брата, — ему нравятся картины Альберти, да притом они земляки: андалусец из Кадиса — это почти родственник, если не брат, то кузен — примо. У цыган это слово значит также «приятель» — если Рафаэль не против, он так и будет его называть. Кстати, не согласится ли Рафаэль написать для него картину весьма благочестивого содержания? Там должен быть изображен сам Федерико, спящий на берегу ручья, а над ним, в верхушке оливы — женский лик, окруженный сиянием. И внизу волнообразная лента с надписью: «Явление Госпожи Нашей дель Амор Эрмосо — Прекрасной Любви — поэту Федерико Гарсиа Лорке». Он хотел бы повесить такую картину в изголовье своей постели.
Художник как раз собирался признаться, что живопись ему опостылела и он окончательно решил посвятить себя поэзии, но как устоишь перед этой сердечной улыбкой! Ладно, он выполнит просьбу Федерико и на том распрощается с живописью.
После ужина в шумной компании Федерико зовет Рафаэля в сад. Резиденция погрузилась во тьму, только из двух-трех окон еще падает свет на кусты жасмина. Где-то вверху шуршит в тополях ночной ветер, где-то внизу булькает вода в канале. Но отступают и эти звуки. Остается лишь голос, воздействующий не на один слух, а словно бы и на другие чувства, — он смуглый, шероховатый, терпкий, по-андалусски мягко шелестящий своими «эс». «Сомнамбулический романс», — медленно говорит этот голос — и заполняет ночь.
В первые минуты Альберти еще способен давать себе отчет в своих впечатлениях, но постепенно голос завладевает им, и вот уже нет ничего, кроме зеленой ворожбы, кроме яростной страсти, повелевающей судьбами, сплавляющей воедино реальность и вымысел. Два человека тяжело поднимаются на крышу, оставляя за собою следы слез и крови. Ночь — не эта, мадридская, а летняя, благоуханная ночь в долине Гранады — незаметно переходит в рассвет.
Фонарики жестяные
на черепицах мерцали,
и ранили раннее утро
хрустальные бубны печали.
Вот они добрались. Вот вглядываются, перегнувшись через решетку, обступаемые со всех сторон неумолимой явью.
Покачивалась цыганка
в бассейне на водной глади.
Зеленые волосы, тело,
глаза серебра прохладней.
И лунная льдинка ее
поддерживает над волнами.
А ночь уютна, как площадь,
зажатая между домами.
Гвардейцы гражданские спьяна
стучали в дверь кулаками.
Повысив голос, Федерико в последний раз произносит строки рефрена:
Люблю тебя в зелень одетой.
И ветер зелен. И листья.
Замолкает на мгновенье. И — все ниже, все тише, будто удаляясь:
Корабль на зеленом море.
И конь на горе лесистой.
Рафаэль не сразу приходит в себя. Слова еще отдаются в нем. Он ощущает укол при мысли о том, как далеко покамест собственным его опытам до поэзии Федерико. Но все затапливает волна счастья: эта поэзия есть, она уже существует на свете, она принадлежит всем! И тут позади него раздается новый голос, восклицающий с сильным каталонским акцентом — настолько сильным, что кажется нарочитым:
— Здорово сделано! Можно подумать, что в этих стихах есть сюжет, но в том-то и штука, что никакого сюжета в них нет!
Обернувшись, Рафаэль видит стройного юношу, давно уж, наверное, стоящего у него за спиной, различает привыкшими к темноте глазами правильные черты тонкого лица. Что-то не нравится ему в этом лице — или в той самоуверенной интонации, с которой прозвучали слова о стихах? — но Федерико, сверкая улыбкой, обнимает Альберти за плечи и подталкивает навстречу юноше:
— Познакомься, примо, это Сальвадор Дали, мой друг.
5
С Сальвадором Дали Федерико впервые встретился еще в 1921 году. Войдя как-то утром в столовую Резиденции, он увидел за ближайшим столиком странно выглядевшую в этом помещении троицу: почтенного буржуа, по одежде и манерам которого легко было узнать провинциала, девочку с трогательными косичками — она тут же с жарким любопытством уставилась на Федерико, — и подростка, отличавшегося от своих спутников не менее, чем от студентов, галдевших вокруг. Подросток был необычайно худ, остролиц; нечесаная грива спадала на воротник его блузы, пронзительные глаза смотрели с вызовом.
Позавтракав, косматый юнец нахлобучил бархатный берет и задрапировался в плащ. В провинции, откуда он прибыл, такою, по-видимому, представляли себе внешность художника. И действительно отец семейства оказался каталонским нотариусом, приехавшим определять своего сына в Академию изящных искусств.
Нотариус с дочкой вскоре уехали, а юнец остался в Резиденции. Первые месяцы он всех чуждался, но до Федерико доходили слухи о необыкновенной одаренности новичка, благодаря которой тот был принят в Академию, хотя представленные им рисунки и не отвечали условиям конкурса, а сам он возмутил профессоров дерзостью и самомнением. Рассказывали также о титанических усилиях, прилагаемых доном Альберто к тому, чтобы убедить Сальвадора Дали стричься короче и одеваться не так причудливо.
Знакомство состоялось на открытии выставки картин уругвайца Баррадаса. Сперва разговор не клеился — Сальвадор глядел исподлобья, односложно отвечал на вопросы. Но когда Федерико спросил, побывал ли уже Сальвадор в Толедо, тот вдруг схватил его за руку.
— Эль Греко! — выдохнул он. — Когда я впервые очутился перед «Похоронами графа Оргаса», у меня вся кровь свернулась в жилах и я грохнулся на плиты как камень!
Он и сейчас побелел, говоря это. Федерико смотрел на него с интересом. С выставки они ушли вместе.
Что и говорить, этот юноша не походил ни на кого из приятелей Федерико. Все было в нем необычно, начиная с фамилии (унаследованной, по его словам, от алжирского пирата Дали-Мами, некогда взявшего в плен самого Сервантеса), — независимость и резкость суждений, откровенность, доходящая до самообнажения, гигантское честолюбие, которое, как охотно признавался сам Сальвадор, являлось главной пружиной его поступков.
— Шести лет от роду я мечтал стать поваром, — говаривал он без улыбки. — В семь захотел сделаться Наполеоном. С тех пор тщеславие мое непрерывно растет.
Впрочем, воспоминания Сальвадора захватывали и более ранний период. Он всерьез уверял Федерико и тех из друзей Федерико, с которыми подружился, что помнит даже время своего пребывания во чреве матери и когда-нибудь обязательно напишет «Внутриутробные мемуары».
— А не после того ли, как ты прочитал Зигмунда Фрейда, появились у тебя эти воспоминания? — спрашивал Луис Бунюэль, насмешливо глядя на него черными глазами навыкате.
В ответ Сальвадор, не смущаясь, приводил кучу подробностей, якобы сохранившихся в его памяти, — немыслимых, невозможных и все же до жути правдоподобных.
Фантазия у него была поистине дьявольская и работоспособность такая же. Работать он мог несколько суток подряд, запершись в своей комнате, входя в которую Федерико не знал, куда ногу поставить, — наброски и эскизы не только закрывали все стены, но и устилали пол в несколько слоев.
Федерико любил пейзажи, привезенные Сальвадором из родных мест, — кипарисы, оливы, голубоватые горы, с пронзительной ясностью вырисовывающиеся в сухом, прозрачном, как бы дистиллированном воздухе Верхнего Ампурдана. Нравились ему и рисунки Дали — беглые, лаконичные, уверенные. Но сам Дали считал, что все это пройденные ступени: реализмом, импрессионизмом никого в наше время не удивишь, а он как раз хотел удивлять, ошеломлять, озадачивать. Ультраисты его привлекли бы, если б не печать неизлечимой провинциальности, лежащая на всех их сверхрадикальных затеях, а Сальвадор, успевший распроститься с плащом и беретом и похожий теперь на небрежно-изысканного мадридского сноба, ничего так не боялся, как показаться провинциальным. Теперь он ставил на Пикассо, увлекался кубизмом, и, когда его величество Альфонс XIII, соблаговоливший посетить Академию изящных искусств, выразил желание позировать ученикам, Дали написал портрет короля в кубистической манере, чем вызвал страшный скандал и навлек на себя гнев всех putrefactos.
«Путрефактос», «гнилье» — это гранадское словцо Федерико приводило Сальвадора в восторг. Черт возьми, да ведь это символ всей нашей жизни, а то и всей жизни вообще! В конце концов он решил создать целую серию рисунков под общим названием «Путрефактос» и с увлечением принялся за работу. Он выискивал натуру повсюду — в Рези, в Академии, в кафе, на бульварах, среди всех сословий и возрастов. Увидев пожилого человека, греющегося на солнце, он почтительнейшим тоном просил разрешения сделать набросок, и гот, польщенный, послушно застывал в указанной позе, не подозревая, в какую гнусную падаль его обращает карандаш молодого художника.
Показывая друзьям новые листы своей серии, Дали сопровождал их краткими пояснениями. Вот охотник и с ним собака — попробуйте различить, где кто! Вот гражданский гвардеец, занимающийся любовью в полном обмундировании. А это отец наш и благодетель, непобедимый генерал дон Мигель Примо де Путрефакто, который сочиняет возражение на статьи Унамуно в «Ле Котидьен».
Рисунки были злыми, жестокими, уморительно смешными. Друзья восхищались. Кое-что, правда, вызывало недоумение. За что попали в галерею гнилья ни в чем не повинные люди — ну, хотя бы старый садовник Резиденции, ворчун и добряк? И зачем понадобилось включать в эту серию издевательские портреты некоторых ученых и писателей, известных чистотой жизни и либеральными взглядами? Дали презрительно усмехался: все они мразь, эти добренькие либералы и республиканцы, только обманывают себя и других, он бы собственными руками повесил их на одном дереве. По нему, уж лучше откровенные монархисты — те по крайней мере знают, чего хотят!

Сальвадор Дали. Рисунок Федерико Гарсиа Лорки
Компания покатывалась со смеху — Дали был забавен во гневе. Надменные тирады его звучали так же преувеличенно, как его каталонский акцент, цинизм казался наигранным. Громче всех хохотал Федерико — он-то знал, каким великодушным и щедрым может быть Сальвадор, какой он преданный друг, как умеет слушать стихи, заливаясь того же бледностью, что и при первом их разговоре.
Молодой каталонец все более нравился Федерико. Сказать по правде, он даже слегка завидовал Сальвадору, завидовал его неколебимой вере в собственное высокое предназначение, его решительности и воле, его хладнокровию и осмотрительности, скрытым за внешней эксцентричностью поведения, — всем тем качествам, которых не находил в себе. Рядом с этим юнцом, на шесть лет его моложе, Федерико чувствовал себя увереннее, спокойнее. Вдвоем они были способны на самые рискованные выходки.
Одна из таких выходок доставила немало неприятностей дону Альберто. Побудительной причиной ее было прозаическое безденежье, одолевавшее обоих друзей с тех пор, как отцы их, словно сговорившись, почти одновременно перешли от родительских увещеваний к экономическим санкциям. Возникла идея: а не заставить ли раскошелиться кого-нибудь из иностранцев — любителей живописи, целыми табунами слоняющихся по Мадриду? И вот уже некий американский дипломат и его супруга рассматривали картины Дали, внимая проникновенным речам Федерико, стремившегося убедить их в том, что покупка произведений столь многообещающего художника — наивыгоднейшая форма помещения капитала.
Опасения дипломатической четы, достаточно ли современны произведения многообещающего художника, были мигом развеяны: такого авангардизма они не видывали и в Париже. Что ж, мистер Янки остановился бы, пожалуй, на двух этих картинах, но — тут между супругами состоялся краткий обмен взглядами — лучше всего встретиться завтра в кафе «Алькала» и там окончательно договориться.
Назавтра в кафе «Алькала» стало ясно, что дело плохо. Жена ли отговорила или сам дипломат решил поискать более надежную форму помещения капитала, но только супруги не заикались более о приобретении картин Дали, а говорили преимущественно о своем восхищении Испанией, о матадорах, о знаменитых исполнителях фламенко, с профессиональной легкостью ускользая от всех попыток Сальвадора и Федерико направить разговор в нужное русло. Прошел час, другой, был исчерпан запас андалусских анекдотов, наконец, терпение Федерико лопнуло. А не показать ли нашим дорогим заокеанским гостям один интересный фокус? — Просим, просим! — Но для фокуса необходимы две совершенно одинаковые денежные купюры, по десять долларов каждая. Так, прекрасно. Теперь смотрите внимательно: вот эта — для Сальвадора, а эта — для меня. Раз, два, три!.. И пока американцы, еще ничего не понимая, растерянно провожали глазами бумажки, с волшебной быстротой исчезнувшие в карманах друзей, Федерико потащил Сальвадора к выходу, приговаривая:
— Пойдем, Сальвадор, мы и так уже потеряли много времени с этими индюками.
Почти все свободные часы они проводили вместе. Иногда лишь — посреди шумного сборища в Рези, в разгар пирушки с друзьями — Сальвадор вдруг загадочно пропадал куда-то, и в течение двух-трех дней все попытки разыскать его оказывались безуспешными. Потом он появлялся как ни в чем не бывало, но на все расспросы приятелей отвечал молчанием, либо плел несусветные небылицы.
— Да отстаньте вы от него, — вступался, наконец, Федерико, — могут же быть у человека секреты!
Мог ли знать Федерико, что он-то и был невольным виновником этих внезапных исчезновений и что причина, заставлявшая его друга искать одиночества в какой-нибудь загородной гостинице, была сродни той, которая заставила когда-то юношу-каталонца грохнуться навзничь перед картиной Эль Греко! Ибо в чувстве, потрясшем тогда Сальвадора в Толедо, счастье встречи с созданием гения смешалось с мучительным ощущением своего ничтожества перед гением, с внезапной, нестерпимой ненавистью к нему.
Он любил Федерико, да и как было не любить этого человека, не испытывать радости, встречаясь с ним! А в глубине где-то жило чувство, настойчиво говорившее, что все, чем так богат Федерико — его мальчишеская беспечность, и естественная, легкая доброта, и поэзия, негасимым костром пылающая в нем день и ночь, и непостижимый дар, позволяющий ему перевоплощаться в других людей, оставаясь самим собой, — все это не только противоположно ему, Сальвадору Дали, но как бы отрицает, зачеркивает его. В присутствии Федерико теряло цену слишком многое из того, что составляло его, Сальвадора, жизнь и от чего он уже не мог отказаться. Глухая, тайная злоба рождалась в нем — временами она усиливалась, подступала к самому горлу, и тогда приходилось бежать, скрываться, чтобы не выдать себя.
Наедине с собой он неистовствовал. Лица Федерико сотнями возникали перед ним на бумаге — уродливые, жалкие, смешные. Но все это не помогало. Помогала лишь одна трезвая мысль: поэтический век недолог. Он потухнет, этот костер, превратится в золу, над которой можно будет согреть руки, не обжигаясь...
Успокоившись, он возвращался в Рези, спешил к Федерико, требовал новых стихов, наслаждался ими и был искренне благодарен другу за то, что тот ни о чем его не расспрашивал.
6
Всякий раз, когда на Тополином холме появлялся Хорхе Гильен — долговязый, сутуловатый, в больших очках, из-за которых смотрели добрые, внимательные глаза, — Федерико радовался, как обрадовался бы старшему брату. В свои тридцать два года Гильен мог служить примером вполне определившегося человека: преподаватель испанской литературы и языка, счастливый супруг, нежный отец... А жил он для одной поэзии и в этой жизни был ровесником Федерико, хоть и вовсе на него непохожим, писал не торопясь еще только первую свою книгу, проводил целые ночи с молодыми друзьями, оставаясь посреди самых яростных споров таким же сдержанным, немногословным, чуть педантичным, каким представал поутру перед учениками. И лишь те, кто читал стихи Гильена — сам он никогда не читал их вслух, — знали, как зорок взгляд его близоруких глаз, сколько дерзких, фантастических мыслей проносится за его высоким лысеющим лбом, прежде чем сгуститься в эти скупо отмеренные, тысячу раз взвешенные и выверенные слова.
Приверженец классической чистоты, аскетически строгий к себе строитель хрустальных, тщательно сбалансированных строф, он удивлял друзей своей способностью тонко чувствовать всякое подлинное искусство — не только чужое, но и чуждое ему самому. Обладая абсолютным вкусом, как другие обладают абсолютным слухом, болезненно реагируя на малейшую фальшь, Хорхе Гильен неизменно узнавал настоящую поэзию, в каких бы обличьях она ни явилась. Ни к одному человеку после Мануэля де Фальи не испытывал Федерико такого доверия. Уже написанные стихи он мог читать любому, но замыслами своими делился лишь с Хорхе.
Поделиться было чем. Не закончив еще ни «Стихов о канте хондо», ни «Песен», Федерико думал уже о том, как много важного, выношенного останется за пределами этих книг (впрочем, он пока не решался назвать их книгами). Да, он сумел проникнуть в душу Андалусии, постиг ее сокровенный язык, научился извлекать ее поэтическую сущность. Но сущность эта, выплавленная из жизни, как металл из руды, не желала довольствоваться теми формами, которые он ей предназначил. Как расплавленный жидкий металл, она хлынула через край этих форм и пронизала собою все, что годами копилось в сознании, — детские сны, дорогие и тягостные воспоминания, лица и судьбы, горькие, будничные раздумья... Образовался новый, неожиданный сплав. Занося на бумагу стихи, посвященные андалусской песне, подчиненные ее законам, Федерико все явственней различал очертания какого-то иного мира, исподволь вызревавшего в нем.
Иного ли? Не того же ли самого, в котором он родился и вырос? Картины, всплывавшие в воображении, оказывались знакомыми — гранадская долина с ее нежно-зеленой порослью, сахарные вершины на горизонте, ночная дорога в горах, кривые улочки Альбайсина, пещеры цыган на Сакро-Монте... А те, кто населял этот мир, — кузнецы и разбойники-бандолерос, судьи и карабинеры, — разве он не помнил их с детства?
Итак, это снова была его Андалусия. Еще раз предстояло ему открыть ее, завоевать, превратить в слова. Но теперь она виделась ему не такой — вернее, не только такой! — какой выглядела в неподвижном, древнем зеркале канте хондо.
В Андалусии, рождавшейся в нем теперь, поэзия не отделялась от быта, но как бы высвечивала быт изнутри. Сказка вырастала из жизни, чтобы снова в ней раствориться. Сквозь подробности житейского обихода вдруг проглядывала история. Пуническая война, задевшая эту землю своим крылом два с лишним тысячелетия тому назад, оживала на миг в смертельной схватке между участниками традиционного шествия ряженых на страстной неделе, — к судья, склонившись над мертвыми телами, констатировал деловито: «Погибло четверо римлян и пятеро карфагенян». Цыгане ковали стрелы и солнца, ангелы принимали участие в земных делах. Сама дева Мария могла бы в любой момент здесь появиться — разумеется, в нарядном платье, не хуже, чем у дочки алькальда, и в сопровождении какого-нибудь лица, пользующегося солидной репутацией, — ну, скажем, сеньора Педро Домека, почтенного виноторговца из Кадиса...
Простодушные, вольные, гордые люди — вот на ком стоял этот пленительный мир. Их дыхание согревало его, их страсть, отвага, мечта в нем господствовали... иных бы господ и не знать ему! Но всесильная смерть бродила и по его дорогам. Только здесь она не была скорбной женщиной в трауре. Здесь смерть носила тяжелые сапоги, и клеенчатую лакированную треуголку, и черный плащ, весь в пятнах воска от свечных огарков, при свете которых гражданские гвардейцы вглядываются ночью в лица своих жертв.
«Сомнамбулический романс» был лишь одной из первых попыток перелить этот мир в стихи. Возникали новые планы. Чтобы без помех обсудить их, Федерико с Хорхе Гильеном отправлялись гулять куда-нибудь за город.
Разгребая ногами шуршащие вороха коричневых, желтых, золотых листьев, дыша полной грудью — только осенью мадридский воздух бывает таким родниково-чистым! — брели они вдоль шоссе, убегающего к Гвадарраме. Федерико, сосредоточенный, непривычно суровый, говорил будто сам с собой, то умолкая на полуслове, то с полуслова же додумывая вслух. Мысль о целом цикле романсов одолевала его все неотвязней. Множество лиц и событий толпилось в памяти, и за каждым вставала Андалусия. Взять хотя бы женщину, по имени Соледад Монтойя, о которой рассказывали ему в детстве, — она умерла от разлуки, как умирают от болезни. Или Антоньито Камборьо, лихой лошадник и пьяница, живший неподалеку от Фуэнте Вакероса и по вечерам проезжавший мимо их окон... Сколько раз Федерико выбегал полюбоваться, как легко сидит он в седле, поигрывая небрежно веточкой ивы! А однажды утром его нашли на дороге мертвым. Говорили, что накануне он выпил больше, чем следовало, и свалился с коня, да так неудачно, что напоролся на собственный нож. Говорили и по-другому: у Антоньито было немало врагов, его же двоюродные братья от зависти к нему могли на все пойти. Какую версию предпочесть?
Хорхе Гильен умел слушать, умел, не изменяя себе, заражаться волнением Федерико. В его присутствии Федерико легче было разобраться в собственных мыслях. Они так хорошо понимали друг друга, что порой, не дожидаясь, пока Хорхе заговорит, а лишь поглядев на него сбоку, Федерико бросался в спор, задумывался либо воодушевлялся.
На одной такой прогулке он рассказал Гильену, что принялся за новый романс. Вот как это будет начинаться:
Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
блестят восковые пятна...
Да, он так и назовет его: романс о гражданской гвардии. О тех, кто давно уже стал для него воплощением всего ненавистного — жестокости, насилия, смерти. Но гражданские гвардейцы — это, так сказать, один полюс романса. А другой полюс — цыгане.
Хорхе пробовал усомниться: опять цыгане? Не нуждается ли этот замысел в чем-то... ну, более характерном, что ли? Но тут Федерико был непреклонен. Да, опять и опять цыгане! Если б Хорхе был андалусцем, он не стал бы спрашивать почему. Потому что для настоящего андалусца цыгане не экзотика, не то кочевое, чуждое племя, какими кажутся они до сих пор жителям северных провинций страны. Оседлые андалусские цыгане давно породнились со всем народом, стали неотъемлемой его частью, больше того — самой поэтической частью народа. Сам дуэнде — андалусский домовой — вселился в этих людей, недаром из них вышли лучшие кантаоры, танцовщицы, тореро. Андалусец видит в цыгане живое воплощение тех качеств, которые он ценит превыше всего, даже если сам не в достаточной мере ими обладает. Способность безоглядно отдаваться страстям, родство со стихиями природы, врожденный артистизм, презренье к богатству и власти, а если сказать это все одним словом, так вольность — вольность! — вот что такое цыгане. Если Андалусия — песня, то цыгане в этой песне — припев.
Вечерело. Они поворачивали, спускались в город, зажигавший свои огни, подходили к дому Хорхе Гильена. Заслышав в прихожей их голоса, дочь Гильена — пятилетняя Тересита с радостным визгом бежала навстречу своему другу, а тот становился на четвереньки и начинал оглушительно лаять. Хорхе еще пытался продолжать серьезный разговор, но где там! Двое детей, один из которых, по глубокому убеждению Хорхе, был надеждой всей испанской поэзии, носились по комнатам, опрокидывая мебель, хохотали, дурачились и унимались не раньше, чем хозяйка дома, чтобы унять их, отвешивала каждому по увесистому шлепку.
Только тогда игра принимала более спокойный характер. Тересита вытаскивала из-под стола игрушечное пианино о шести клавишах, а Федерико, преисполнившись важности, давал ей уроки фортепьянной игры и пения одновременно. Одной рукой извлекая из пианино что-то вроде мелодии, а другой утирая слезы, он пел пронзительным голосом кукольного паяца прочувствованную песенку о двух ящерицах, сочиняемую на ходу.
Ящер плачет.
Ящерка плачет.Ящер и ящерка
в беленьких фартучках.Потеряла ящерка
колечко обручальное.Ай, колечко ее из свинца!
Ай, ее колечко свинцовое!
7
Открывая глаза, Федерико не сразу соображает, где он. Незнакомый потолок, не похожий ни на один из тех, какие привык он видеть над собой, просыпаясь — в Резиденции ли, в Гранаде ли, — залит солнечным светом, ослепительным и дрожащим. За окном женские голоса негромко переговариваются на чужом языке. А откуда-то издали приближается нарастающий гул, подкатывается вплотную... грохот! — и сразу оглушительный шорох, тут же перебиваемый новым нарастающим гулом... А! Он на морском берегу, в Кадакесе — рыбацком поселке, в гостях у Сальвадора Дали.
Вообще-то семья нотариуса Дали живет постоянно в городке Фигерасе, километров за двадцать отсюда, а к морю перебирается только на лето. Но когда Сальвадор известил, что в этом, 1925 году приедет на пасху не один, а с другом-поэтом, ни разу не бывавшим в Каталонии, решено было принять гостя в Кадакесе, чтобы дать ему налюбоваться вволю видами здешних мест.
Места и в самом деле необыкновенные. Справа — если глядеть с моря — отроги Восточных Пиренеев подступают к самому берегу и превращаются в катастрофическое нагромождение рвущихся вверх и вкось утесов, скал, каменных глыб, словно вывороченных из недр земли каким-то гигантским взрывом. Взрыв этот, однако, не задел Кадакеса; дойдя до него, горы смиряются, переходят в холмы — покатые, голые, вереницей слонов огибающие бухту, по берегам которой разбросаны хижины рыбаков, а в глубине возвышается белая вилла сеньора Дали. Левее, к югу, ландшафт еще мягче, там оливковые рощи и виноградники, совсем как где-нибудь под Малагой. И все это зрелище, вставленное в общую раму из черно-зеленого с проседью моря и бездонного неба немыслимой голубизны, можно охватить одним взглядом.
Окаменевшее буйство изверженных горных пород, неумолкающий голос моря, древний промысел рыбаков, виднеющиеся кое-где на холмах развалины стен, построенных еще греками, сообщают природе Кадакеса нечто библейское, вечное. Федерико впитывает ее в себя всеми порами. По утрам, когда Сальвадор запирается у себя в мастерской на чердаке, а отец его, повязав фартук, уходит возиться в саду, гость часами бродит вокруг поселка. То он поднимается к остаткам циклопических стен, то забирается в скалы, где чувствуешь себя точно в жерле потухшего вулкана, а то просто сидит на песке, завороженно глядя, как волна подкатывается, опрокидывается — и целая шеренга белых лохматых пуделей выбегает на берег, кувыркаясь и уменьшаясь в размерах.
С морем у Федерико отношения сложные: оно и отталкивает его и влечет одновременно. Пульсирующая, живущая своей загадочной жизнью стихия кажется ему враждебной, подчас внушает непреодолимый ужас. Перед лицом этой бескрайности и бездонности Федерико ощущает пронзительную тоску по Гранаде, по возделанной, защищенной от бурь долине, по родному, обжитому миру детства. И все-таки его вновь и вновь тянет к морю, как мальчишкой тянуло, замирая от головокружения, смотреть вниз с башен Альамбры.
А между тем, куда бы ни пошел Федерико, за ним внимательно и ревниво следит пара черных глаз, принадлежащих Анне Марии, сестре Сальвадора. Девчонка, несколько лет назад беззастенчиво рассматривавшая Федерико в столовой Рези, превратилась в подростка — угловатого, обидчивого. Старший брат — ее идол, и ревнивое чувство у Анны Марии вызвано тем непривычным восхищением, с которым говорит он о своем друге. Послушать его, так этот андалусец — гений, чуть ли не такой же, как сам Сальвадор. Почему же тогда он ведет себя как простой смертный, не обнаруживая ни тщеславия, ни самовлюбленности, ни сатанинской гордыни — ни одной из тех черт, с которыми, как с неизбежными спутниками подлинной гениальности, вынудил примириться Анну Марию ее обожаемый брат?
Анна Мария старается не поддаваться добродушию андалусца, его открытой улыбке. Не без тайного злорадства сравнивает она широкое, почти квадратное лицо Федерико с точеным профилем Сальвадора, неуклюжесть, приметную в походке гостя, — с небрежным изяществом, сквозящим в каждом движении брата. Впрочем, в движениях Федерико, если всмотреться, есть, пожалуй, своя косолапая грация, какой обладают котята, щенки да очень маленькие дети.
Однажды как-то она застает Федерико на морском берегу в тот самый момент, когда неожиданно большая волна окатывает его — задумавшегося или задремавшего — с ног до головы. Надо видеть, как он шарахается, какая резкая бледность разливается по его смуглому лицу! И это мужчина?! — готова вознегодовать Анна Мария, бросаясь к нему на помощь, но, когда Федерико, все еще не опомнившись, совсем по-детски хватает ее за руку, раздражение вдруг пропадает, сменяется незнакомым чувством, от которого сжимается сердце.
Как раз в этот день за обедом Сальвадор вспоминает, что Федерико привез с собой недавно законченную пьесу в стихах — да, народный романс в трех эстампах! — так вот, не соблаговолит ли он почитать ее нам? «В эстампах так в эстампах», — сеньор Дали, украдкой взглянув на садовые ножницы, восклицает с преувеличенным энтузиазмом, что он был бы счастлив послушать сочинение гостя. Вот и дочь тоже... но дочь, потупясь, строптиво молчит, и тогда Федерико кивает: хорошо, он согласен.
Чтение происходит здесь же в столовой, под улыбающейся из своей ниши старинной статуей божьей матери. Нотариус захвачен с первых минут, лицо его выражает бесхитростное удивление: не ожидал! «Ну, что я вам говорил?!» — усмехается Сальвадор. Анна Мария смотрит на Федерико в упор, но видит не его, а белую комнату в старом гранадском доме, видит разных людей, поочередно возникающих перед ее внутренним взором. Видит донью Ангустиас, до смерти перепуганную тем, что приемная дочь ее Мариана вышивает какое-то знамя для своих друзей-либералов. И беззаботных сестер — хохотушку Ампаро и сдержанную Лусию, не вовремя пришедших навестить свою старшую подругу Мариану Пинеду. И восемнадцатилетнего Фернандо, влюбленного в Мариану так беззаветно, что ради нее он готов пожертвовать даже любовью к ней... И Мариану в платье цвета светлой мальвы, Мариану, охваченную тревогой, Мариану, спасающую от гибели своего возлюбленного, заговорщика Педро де Сотомайора. И все они — в нем одном, в этом вот человеке, который показался Анне Марии таким беспомощным!
Второй эстамп Федерико читает уже при зажженной лампе — почти наизусть, как и раньше, лишь изредка наклоняясь к разложенным перед ним четвертушкам бумаги. За окнами не умолкает шум волн — или это порывы дождя и ветра хлещут по окнам старого дома в Гранаде? Там, в гостиной, играют дети, они вспоминают наперебой старинный романс о Лусенском герцоге, о девушке, вышивавшей знамя, о смерти, и слова романса — наивные, скорбные — звучат недобрым предвестием для Марианы Пинеды.
Но вот, наконец, спасенный ею дон Педро — суровый, сильный, располагающий к себе человек. Он полон признательности и нежности, Мариану он искренне любит, а Свободу — боготворит, и его ли вина в том, что любовь его поневоле выглядит слишком рассудочной и спокойной рядом со всепоглощающей, самозабвенной женской любовью? И что до этого Мариане, которая счастлива в эти минуты так, как только может быть счастлива женщина!
Собираются заговорщики. Ждут сигнала к началу восстания, но приходят дурные вести. Подмога из Кадиса не прибудет, в Малаге генерал Торрихос стал жертвой предательства, с выступлением придется повременить. Нужно расходиться, как вдруг — удары дверного молотка. Это Педроса, королевский судья, имя которого наводит ужас на всю Гранаду. Можно скрыться через потайную дверь, только что же будет с Марианой? «Нельзя ее одну оставить нам!» — восклицает кто-то из заговорщиков, но Педро решительно заявляет: «Так надо! Что скажем мы, когда нас здесь найдут?» Ах, он, конечно, прав, нельзя же из-за женщины ставить под угрозу восстание...
И женщина остается одна. Лицом к лицу встречает она Педросу, давно уж не дающего ей покоя своим вниманием. Начинается разговор, состоящий из незначительных фраз и полных глубокого значения пауз, во время которых два человека ведут глухую, отчаянную борьбу друг с другом. Педроса играет с Марианой, словно кошка с пойманной птицей, каждый его намек иглой вонзается в ее сердце. Вот как бы невзначай поминает он некоего дона Педро де Сотомайора — вожака либералов, которого Педроса надеется вскоре схватить... И вдруг, не сдерживаясь более, грубо обнимает ее, а встретив отпор, раскрывает свои карты. Знамя, вышитое Марианой, найдено в одном доме в Альбайсине. Мариана изобличена, но Педроса может и не губить ее. Пусть лишь она ответит, наконец, на его любовь, ну и, конечно, назовет имена друзей-заговорщиков.
«Никогда!» — восклицает Мариана в исступлении. Да, она вышила знамя своими руками — «вот этими руками, смотри, Педроса!» — и она знает поименно тех доблестных рыцарей, которые собирались» поднять его в Гранаде, но не выдаст их даже под пыткой!
Объявив Мариану задержанной, Педроса уходит. Бежать? Поздно: стража у всех дверей. Проснулась и плачет маленькая дочь, бушует непогода на улице, и невозможно спастись, и немыслимо изменить себе, и ничего уже нельзя сделать. Так вот как подходит смерть!
Не успевает Федерико произнести: «Занавес быстро опускается», как странный сдавленный звук заставляет всех повернуться к Анне Марии. Прижимая к лицу ладони, натыкаясь на стулья, она выбегает из комнаты. Отец смотрит ей вслед озабоченно, Сальвадор — с легким неудовольствием. Федерико устало улыбается. Сейчас он выглядит гораздо старше своих лет.
8
Мерный гул моря преследует Федерико и дома, в Гранаде. Стоит только зажмуриться — и снова покатятся волны, поплывут перед глазами дикие скалы, бурые нагие холмы. И белые домики рыбаков. И длинные смоляные косы играющей с волнами Анны Марии — «маленькой морской сирены», как прозвал ее Федерико, когда они окончательно подружились.
Прежние замыслы на время оттеснены. В сказочных образах, навеянных Кадакесом, пробует Федерико найти соответствие некоторым из своих постоянных, годами вынашиваемых мотивов. Летом 1925 года он задумывает большую поэму.
«Эта поэма называется «Сирена и карабинер», — сообщает он спустя несколько месяцев в письме Хорхе Гильену. — В ней рассказывается, как один карабинер выстрелом из ружья убил маленькую морскую сирену. Это трагическая идиллия. Под конец там будет великий плач сирен, плач, который вздымается и низвергается, словно вода в море, меж тем как карабинеры кладут мертвую сирену под знаменами в штабе».
Он набрасывает несколько начальных строф:
Петухи и баркасы раскрыли свои крылья из льна и перьев.
Стайки дельфинов играют ныряя.
Круг вечерней луны отрывается постепенно
от холма из шорохов и бальзама.На берегу у воды поют матросы
песни из бамбука с припевом из снега
Перепутанные карты блестя1 в их взорах,
там Китай без воздуха и Эквадор без света.Медные трубы вонзают свои наконечники
в румяное облако самого дальнего неба...
Медные трубы, на которых играют карабинеры,
с морем и его обитателями враждуя вечно.
И все же Федерико так и не напишет этой поэмы. Андалусия вновь завладеет им ревниво и безраздельно, заставит позабыть обо всем на свете, кроме красноватых ее дорог, прохладных сонных равнин и гор, окутанных поутру синим туманом, исчезающим к полудню, кроме одиноких селений и городов, похожих на вдовствующих, старящихся красавиц, кроме ее людей, таких же, как и сам он, оливково-смуглых, суеверных, беспечных. А в награду за верность она будет особенно щедра к нему, снова опьянит его песнями, расскажет десятки историй, подстроит неожиданные встречи, пойдет на множество женских уловок, чтобы вернуть его к «Романсеро». И он вернется. И родная земля в это лето покажется ему той заморской тропической почвой, в которую, говорят, достаточно палку воткнуть — и вырастет дерево.
Уже осенью как-то он возвращается вместе с Пакито из дальней прогулки по Сьерра-Неваде. Устав за день, братья подсаживаются в поравнявшуюся с ними повозку, которую тащит пара мулов почтенного возраста. Вечереет; снеговая вершина на голубом небе сверкает, как раскаленная добела; из ущелий поднимается розовый пар. Поскрипывают колеса, шуршат камешки, скатываясь с обрыва. Погонщик-мулеро то клюет носом, то, словно проснувшись, затягивает песню, состоящую всего из трех строк:
Да, я увел ее к реке,
думал я — она невинна,
но она — жена другого!
Подремлет — и опять: «Да, я увел ее к реке...» Федерико молчит, покачиваясь, а младшему брату хочется поговорить. Что думает Федерико о студенческих волнениях, которые произошли в Мадридском университете в начале нового учебного года? Шутка ли — освистали самого представителя Военной директории, генерала Вальеспиноса, во всех аудиториях разбрасывали листовки, призывающие к борьбе против диктатора и монархии! А какой скандал разыгрался только что на медицинском факультете, куда заявился другой высокий посетитель, генерал Мартинес Анидо! Студенты кричали: «Убийца!», «Бандит!» — до тех пор, пока барселонский мясник не ретировался с позором. Но всего интереснее, что даже зачинщики сравнительно легко отделались — студенчество и профессора сумели добиться освобождения арестованных и возвращения высланных. Не кажется ли Федерико, что подобные факты свидетельствуют о начавшемся кризисе диктатуры, позволяют надеяться на смягчение режима?
«Да, я увел ее к реке...» Нет, старший брат не разделяет этих надежд, просто ему лень спорить. Ему не верится, что правительство пойдет на уступки внутри страны теперь, когда оно наконец-то — после стольких провалов! — добилось военных успехов в Марокко. Удачная высадка в бухте Алусемас, наступление превосходящими силами на войска Абд эль-Керима — и вот уже патриотическая гордость взыграла в обществе, и многие из тех, кто вчера лишь смеялся над Мигелито, заявляют, что он как-никак смыл позор Аннуала. Газеты трубят о великой победе в Северной Африке, диктатор принимает поздравления и распределяет лавры, никто словно и не помнит о тысячах мертвецов, оставшихся в африканских песках.
«Да, я увел ее к реке...» Братья молчат. Дорога опускается в долину, тонущую в сером сумраке; из-за Сьерра-Невады выходит луна, а на самых высоких гребнях еще дотлевает закат.
А какое-то время спустя в памяти Федерико прорастает несколько слов. Он не помнит, откуда эти слова, да и не старается вспомнить, всецело поглощенный их смыслом. «Думал я — она невинна, но она — жена другого!» — не испанец навряд ли поймет, в чем тут обида. Нужно знать неписаный кодекс: настоящий мужчина влюбляется только в девушку. Замужняя женщина, обманом добившаяся его любви, наносит урон его чести. Такая женщина заслуживает того, чтобы обойтись с ней, как с продажной.
Несправедливо? Жестоко? Сейчас Федерико об этом не думает. Сейчас он — тот человек, что влюбился в чужую жену, приняв ее за невинную девушку. Упоение женским телом изведано им, оскорбленная гордость, неутолимая ревность — и рука его сотрясается, выводя стихи, от которых у него самого пересыхает в горле.
Проходит еще несколько дней. Однажды утром Федерико зовет к себе брата, и по его голосу тот сразу догадывается зачем. Так и есть — едва дождавшись, пока Франсиско усядется, Федерико читает ему только что законченный романс «Неверная жена»:
И в полночь на край долины
увел я жену чужую,
а думал — она невинна.То было ночью Сантьяго,
и, словно сговору рады,
вокруг фонари погасли
и замерцали цикады.
Я сонных грудей коснулся,
последний проулок минув,
и жарко они раскрылись,
кистями ночных жасминов.
А юбка, шурша крахмалом,
в ушах звенела, дрожала,
как полог тугого шелка
под сталью пяти кинжалов.
Врастая в безлунный сумрак,
ворчали деревья глухо,
и дальним собачьим лаем
за нами гналась округа.За голубой ежевикой,
у тростникового плеса,
я в белый песок впечатал
ее смоляные косы.
Я сдернул шелковый галстук,
она наряд разбросала.
Я снял ремень и револьвер,
она — четыре корсажа.
Была нежна ее кожа,
белей лилейного цвета —
и стеклам в ночь полнолунья
такого блеска не ведать.
А бедра ее метались,
как пойманные форели,
то лунным холодом стыли,
то белым огнем горели.
И лучшей в мире дорогой
до первой утренней птицы
меня этой ночью мчала
атласная кобылица...Меня не покинул разум,
а гордость идет цыгану.
Слова, что она шептала,
я вам повторять не стану.
В песчинках и поцелуях
ушла она на рассвете.
А гневные стебли лилий
клинками рубили ветер.Я вел себя так, как должно,
цыган до смертного часа!
Я дал ей ларец на память
и больше не стал встречаться,
запомнив обман той ночи
в туманах речной долины —
она ведь была замужней,
а мне клялась, что невинна.
Франсиско молча разводит руками.
— И подумать только, — говорит он, переведя дух, — что ты сделал все это из песенки того мулеро... а я-то на нее и внимания не обратил!
— Какая песенка? — удивляется Федерико. — Какой мулеро?
Напрасно пытается младший брат восстановить в его памяти обстоятельства прогулки в Сьерра-Неваду — Федерико решительно не помнит никакой песенки. История с неверной женой, утверждает он, выдумана им сначала до конца. Настойчивость Пакито раздражает его, и, почувствовав это, брат растерянно замолкает.
Неловкую паузу прерывает дон Федерико, входящий с развернутой газетой в руках.
— Погодите с вашими стихами! — восклицает он добродушно. — Окончательная победа в Марокко! И сколько наград, вы послушайте! Примо де Ривере — целых два ордена: Большой лавровый крест святого Фердинанда и «Морская слава». А один полковник Иностранного легиона, тридцати четырех лет всего, производится в генералы — такого молодого генерала в Испании еще не было! Кстати, Пакито, он твой тезка — Франсиско Франко.
9
В марте 1926 года Федерико снова в Гранаде.
«Я сейчас много работаю, — пишет он Хорхе Гильену, получившему к этому времени кафедру в Мурсии. — Заканчиваю «Цыганский романсеро». Новые темы и старые неотвязные чувства. Гражданская гвардия разъезжает взад и вперед по всей Андалусии. Хотелось бы мне прочитать тебе любовный романс о неверной жене или «Пресьосу и ветер».
«Пресьоса и ветер» — это цыганский романс, который представляет собою миф, сочиненный мною. В этой главе романсеро я пытаюсь сочетать цыганскую мифологию с откровенной обыденностью текущего времени. Получается нечто удивительное, но, надеюсь, и по-новому прекрасное. Я хочу добиться того, чтобы образы, которыми я обязан своим героям, были поняты ими, были видениями того мира, где они живут, хочу сделать романс слаженным и словно камень крепким.
...Останется книга романсов, и можно будет сказать, что это книга об Андалусии. Уж это так! Андалусия не поворачивается спиной ко мне...»
А еще через месяц в компании с Хорхе Гильеном и Гильермо де ла Торре Федерико отправляется в старый кастильский город Вальядолид по приглашению тамошнего Атенея. «Откуда они меня знают? — недоумевает он всю дорогу. — И с чем, собственно, буду я там выступать?»
Друзья помалкивают. Не говорить же, что вальядолидцы действительно не слышали даже имени Гарсиа Лорки (а кто виноват, как не сам он, годами не отдающий в печать лучшие свои стихи?) и пригласили его исключительно по настоянию Гильермо и Хорхе, лишь на этом условии согласившихся прочитать лекции о современной испанской литературе.
Встречающий их президент Атенея, дон Энрике, приветлив и деловит. «Сегодня, восьмого апреля, ваша лекция, дон Хорхе; любители поэзии ожидают ее с нетерпением. А потом наш... м-м... молодой друг почитает свои стихи?.. Ну и отлично!»
Поглядев на заполняющийся зал через дырочку в занавесе, Федерико приходит в уныние. В основном пожилые люди; лица как равнина Ла-Манчи — суровые, неподвижные, в морщинах. К таким не подступишься с песенками! Но тут Хорхе Гильен, бледный и важный, поднимается на трибуну, и Федерико скрывается в комнату за сценой — припомнить что-нибудь подходящее для этой аудитории. Прочесть им, что ли, «Элегию донье Хуане Безумной»?
Негромкая, размеренная речь Хорхе еле долетает сюда, но какие-то его слова заставляют Федерико прислушаться. Гильен говорит занятные вещи — о кризисе современной поэзии, раздробившейся на десятки течений и школ, об утрате единых критериев, о все возрастающем разрыве между искусством для избранных и искусством для всех. Где он, тот поэт, который сумеет преодолеть этот гибельный разрыв и станет народным, не отказавшись от завоеваний своих предшественников?
Ах вот как, такой поэт уже существует?.. Ему незачем ни порывать с традицией, ни отбрасывать достижения учителей. Он носит в себе и видит перед собою чудесный народ. И он принимается петь, как поет народ его Андалусии, и он превращает в стихи весь мир своей Андалусии: горы, небо, человека и призрак. Он не копирует их — он их поет, воображает, воссоздает; короче говоря, он претворяет их в поэзию. Но в каком великолепном единстве предстают земные стихии в этом творчестве, которое, в свою очередь, вобрало в себя поэтическое мастерство всех эпох!
Андалусец — значит, это он о Хименесе. С чего только Хорхе взял, что их общий учитель не печатает своих стихотворений, предпочитая исполнять их устно? Хуану Рамону это вовсе не свойственно. Постой, постой!.. И вдруг Федерико явственно различает свою фамилию, названия своих еще не опубликованных книг. Приоткрыв дверь, он с возрастающим ужасом вслушивается в незнакомо звенящий голос друга, сопровождаемый усиливающимся ропотом публики:
— Волнующее мгновение... Прежде чем войти уверенным шагом в Историю, он появляется перед нами. Нет еще ни официальной торжественности, ни заранее предрешенного мнения. И мы с вами не пассивные свидетели посвящения, нам выпала высочайшая честь быть активными, пылкими открывателями. Пройдут года, и мы сможем сказать: «Мы провидели в Федерико Гарсиа Лорке великого поэта, каким ему предстояло стать. Мы оказались теми, кто создает, а не теми, кто хоронит». Это звучит патетично и вместе с тем так просто: Федерико Гарсиа Лорка большой поэт, как дважды два — четыре. Истории не останется ничего иного, как только сказать: «Аминь».
Молчание. Несколько жидких хлопков, неразборчивые возгласы, шум. И почти сразу же за стеной, в коридоре, — торопливые шаги и два голоса. Один голос знаком Федерико — это президент Атенея, дон Энрике, взывает растерянно:
— Ну куда же вы, сеньор Коссио? Дон Мануэль! Погодите немного!
— Простите, дон Энрике, но я пойду, — отвечает другой, старческий голос — если бы еще злой, брюзгливый, а то он только дрожит от обиды, совсем по-детски, и колющая жалость на миг вытесняет из сердца Федерико все прочие чувства. — Как-то горько мне все это слушать. Знаю, знаю, исконная наша страсть к преувеличениям, задор молодости... И все же, когда в стране Манрике, и Гарсиласо, и Лопе — да что перечислять! — объявляют чуть ли не гением человека, выпустившего одну книгу юношеских стихов!..
— Все мы удивлены, — соглашается президент Атенея, — сеньор Гильен пользовался до сих пор репутацией вдумчивого и строгого критика. А все-таки, дон Мануэль, задержитесь хоть ненадолго, прошу вас!.. Ну, вот и прекрасно! А я отправлюсь за нашим гением.
Чтобы избежать встречи с ним, Федерико опрометью выскакивает из комнатки, делает несколько шагов в полутьме кулис и внезапно оказывается на сцене, лицом к лицу с публикой, которая разом смолкает при его появлении. Отступать некуда. Он всей кожей чувствует множество глаз, берущих его на прицел, но именно это чувство и возвращает ему присутствие духа. Побеждая смятение, нарастает в нем знакомая страсть: объединить всех этих людей, заставить их радоваться, тосковать, мечтать вместе с собой! Шагнув к самому краю сцены, Федерико начинает читать стихи — так, как читал бы одному-единственному человеку.
Он читает стихи о канте хондо, следя за тем, как разглаживаются морщины на лицах, напряженно вслушиваясь не в аплодисменты, взрывающиеся после каждого стихотворения, а в тишину, паутинкой повисающую в зале, как только он вновь открывает рот. Читает отрывки из книги «Песни» — полную черной тоски «Песню всадника» и ту, задорную, которую посвятил Ирене Гарсиа, служанке, и горькую — «Деревце, деревцо»:
Де́ревце, деревцо́
к засухе зацвело.
Девушка рвала оливы
над вечереющим полем.
И обнимал ее ветер,
ветреный друг колоколен.На андалусских лошадках
ехало четверо конных,
крылья чернели на куртках,
на голубых и зеленых.
«Едем, красавица, в Кордову!»
Девушка им ни слова.Три матадора шагали,
станом — лоза полевая;
шелк отливал апельсином,
сталь серебром отливала.
«Едем в Севилью, красавица!»
Девушка им ни слова.Когда опустился вечер,
лиловою мглою омытый,
юноша вынес из сада
розы и лунные мирты.
«Радость, идем в Гранаду!»
И снова в ответ ни слова.Осталась девушка в поле
стоять оливой в тумане,
и ветер серые руки
сомкнул на девичьем стане.Де́ревце, деревцо́
к засухе зацвело.
Но лишь окончательно уверившись в своей власти над аудиторией, он решается вывести на подмостки Пресьосу-цыганочку, ветер и море:
Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно
среди хрусталей и лавров
бродя по тропинке млечной.
И, бубен ее заслыша,
молчанье бежит в обрывы,
где море в недрах колышет
полуночь, полную рыбы.
Стрелки́ на черных утесах
застыли в сонном молчаньи
на страже у белых башен,
в которых спят англичане.
А волны, цыгане моря,
играя в зеленом мраке,
бросают к узорным гротам
сосновые ветви влаги.Пергаментною луною
Пресьоса звенит беспечно.
И оборотнем полночным
к ней ветер спешит навстречу.
Нагой Христофор-святитель,
в венце неземных звучаний,
своей колдовской волынкой
цыганочку он встречает.
— О, дай мне скорей, Пресьоса,
откинуть подол твой белый!
Раскрой в моих древних пальцах
лазурную розу тела!
Кто это выдумал, будто кастильцы суровы и замкнуты? Поглядите-ка на них сейчас, когда они заворожены сказкой, рождающейся у них на глазах и увлекающей их в свой мир!
Пресьоса роняет бубен
И птицей летит по склонам.
Вдогонку ветер несется,
свистя мечом раскаленным.Застыло дыханье моря,
забились бледные ветви,
запели флейты ущелий,
и гонг снегов им ответил.
Пресьоса. беги, Пресьоса!
Все ближе зеленый ветер!
Пресьоса, беги, Пресьоса!
Он ловит тебя за плечи!
Сатир из звезд и туманов
в огнях сверкающей речи...
Пресьоса, полная страха,
бежит по крутым откосам
к высокой, как сосны, башне,
где дремлет английский консул.
А следом, подняв тревогу,
на крики спешат солдаты
в заломленных набок шляпах,
в широких плащах крылатых.
Несет молока ей консул,
холодной воды в бокале,
подносит ей рюмку водки —
Пресьоса не пьет ни капли.
Она говорит, рыдая,
про все, что случилось ночью...А ветер хрипит на кровле
и рвет черепицу в клочья.
...Поздно ночью, когда банкет в честь Гарсиа Лорки и его друзей подходит к концу, когда речи и тосты, произнесенные вальядолидцами, далеко оставили за собой все сказанное Хорхе Гильеном, Федерико тихонько просит Гильермо узнать, нет ли среди присутствующих сеньора Мануэля Коссио.
— Сеньора Коссио из газеты «Кастильский Север»? Его здесь нет, он ушел, как только было прочитано последнее стихотворение. А что такое?
— Да нет, ничего, — растерянно говорит Федерико. Лицо его сумрачно.
10
Свое двадцативосьмилетие Федерико встречает с родными, в отцовской усадьбе Даймус, затерянной среди оливковых рощ и свекловичных полей. Лето выдалось на редкость жаркое и сухое — зелень выцвела, почва растрескалась, и кажется, что равнина вот-вот заполыхает со всех четырех концов. А на душе у Федерико холодно и тревожно.
Двадцать восемь лет! Не время ли задуматься, оглядеться, посмотреть на себя со стороны? Не пора ли остепениться? — читает он каждый день в суровом взгляде отца, в глазах матери, любящих и печальных. Да и в самом деле — ну, что он собой представляет, великовозрастный «сеньорито» без определенных занятий?! Автор двух книг, об одной из которых стыдно вспомнить, а другую он давным-давно перерос... Автор двух пьес — первая провалилась, а вторая не может увидеть сцены: сам Мартинес Сьерра, наговорив комплиментов, сказал откровенно, что только самоубийца решится в нынешних условиях поставить «Мариану Пинеду», которая, несомненно, будет воспринята как памфлет против диктатуры Примо де Риверы («Свобода? Конституция? — да вы что, с луны свалились, дружище?»)... А еще он — «последний хуглар», как прозвали его друзья, сочинитель песенок и романсов — их заучивают на память, передают из уст в уста; говорят, даже испанские студенты в Париже декламируют «Неверную жену» на вечеринках, — но следует ли удивляться тому, что родителям эта слава кажется сомнительной и неверной?
Ну, до каких пор можно жить на средства отца, во всем от него зависеть и всякий раз, обращаясь к нему за деньгами, чувствовать себя мальчишкой?
Нет, решает Федерико, необходимо что-то предпринять. Юриспруденция не для него, но разве не смог бы он, к примеру, преподавать литературу, как Хорхе Гильен?.. Идея! Именно к Хорхе Гильену и обратится он за советом!
«Я решил, — без предисловий пишет он другу, жирной чертой подчеркивая слово «решил», — подготовиться к конкурсу на должность преподавателя литературы, так как думаю, что имею к этому призвание (оно постепенно во мне рождается) и способен воспламенять слушателей.
В то же время мне хочется стать независимым и завоевать самостоятельное положение в семье, которая, разумеется, исполняет любые мои желания и всячески облегчает мне жизнь. Как только я сказал об этом дома, родители мои очень обрадовались и обещали, если я вскоре начну заниматься, дать мне денег на поездку в Италию, о чем я мечтаю уже несколько лет.
Я полон решимости и хочу, чтобы эта решимость стала еще сильней, но я не имею понятия о том, как делаются дела. Мне приходится сейчас отчаянно ломать голову над осуществлением этого плана, потому что я ничего не смыслю в чем-либо, кроме Поэзии. И вот почему я обращаюсь к тебе. Как ты думаешь, что нужно мне для того, чтобы, самым серьезным образом подготовившись, стать учителем... да, учителем поэзии? Что должен я предпринять? Куда направиться? Что изучать? За какие науки взяться? Отвечай».
Хорхе не медлит с ответом. Он советует Федерико начать с планомерного изучения необходимых трудов, посылает их список, однако предупреждает, что дождаться подходящей вакансии не так-то просто — нужно запастись терпением. Последнее не устраивает Федерико — видимо, Хорхе недостаточно представляет себе его положение.
«Не считаешь ли ты, — спрашивает он Гильена, наспех поблагодарив его за советы, — что, помимо упорядоченного чтения, мне следовало бы поработать с кем-то? Поехать куда-нибудь? Выступить с лекциями? Дело в том, что сидеть в Гранаде, почитывая и ожидая вакансии, кажется мне нестерпимым — ты понимаешь?.. Кроме того, надолго это затянется? Вот что важно. Потому что мне необходимо определиться. Представь себе, что я захотел бы жениться. Мог бы я позволить это себе? Нет. И вот вопрос, который мне нужно решить... Не думай, я не связан сейчас ни с какой девушкой, но ведь этого не миновать!»
И в конце письма Федерико опять возвращается к мыслям, не дающим ему покоя. Может быть, в самом деле начать выступать с лекциями? За границей? В Париже — это было бы лучше всего! Попытаться, что ли?
«Родители дадут мне столько денег, сколько я попрошу и даже больше, как только увидят, что я вступил на путь... как бы выразиться... официальный. Вот именно, официальный!
Но впервые они категорически возражают против того, чтобы я и впредь сочинял стихи, не думая более ни о чем. Малейшего усилия с моей стороны достаточно, чтобы они остались довольны. Поэтому я и хочу заняться чем-нибудь... официальным».
Однако теперь эти мысли уже не владеют им безраздельно. Житейские заботы отступают на задний план, как только он переходит к тому, что волнует его больше всего на свете. Голос, который слышится Хорхе Гильену, пробегающему глазами его письмо, вдруг делается таким, каким Федерико читает свои стихи. Да они и похожи на стихи, эти строки, где о поэзии говорится на собственном ее языке:
«...Настоящая поэзия — это любовь, усилие и самоотвержение. Наполнять поэзию трубными звуками и украшать ее драпировками — все равно что превращать академию в публичный дом. Только тебе я могу сознаться, что ненавижу орган, лиру и флейту. Люблю человеческий голос. Одинокий человеческий голос, донага раздетый любовью...
...Мне очень нравятся твои стихи. И все-таки я думаю, что все мы грешны перед поэзией. Еще не написано стихотворение, которое пронзило бы сердце, как шпага...
...Я тоже грешен. Я пустил на ветер много чудесных поэтических мгновений, не в силах вытерпеть жара, который жег мне руки. Но теперь я переменился и с каждым днем буду меняться все сильнее».
В этом же письме Федерико посылает другу новый романс. Он называется «Схватка» и начинается так:
В черных глубинах ущелья
две альбасегских навахи,
красуясь вражеской кровью,
блестят, как рыбы во мраке.
Под острой иглою света
из резкой листвы возникли
морды коней исступленных,
профили всадников диких.
Горестно плачут старухи
под сенью древней оливы.
Неистовый бык раздора
кидается на обрывы...
Дойдя до подписи: «Федерико (неисправимый поэт)», Хорхе вздыхает с некоторым облегчением. Быть может, суровый приговор, который предстоит ему вынести утопическим проектам друга, окажется для того не таким уж тяжким ударом?..
И действительно, ни в одном из последующих писем Федерико не заикается больше о том, чтобы сделаться преподавателем или отправиться с лекциями за границу. Как раз в это время к нему в гости приезжает приятель по Резиденции, поэт Эмилио Прадос — «охотник за облаками», как назвал его Федерико в посвящении к одному из стихотворений. Сейчас он обосновался в Малаге и там вместе с Мануэлем Альтолагирре затеял издание журнала «Литораль», которому предстоит — Эмилио головой ручается — стать знаменем всей молодой испанской поэзии. Издатели «Литораля» намерены выпускать также отдельные поэтические сборники. Им уже обещал свою новую книгу Рафаэль Альберти, получивший в прошлом году Национальную премию по литературе. А другая книга... если говорить начистоту, за нею Прадос и явился в Гранаду.
Ну, конечно, кому не известно, как противится Федерико изданию своих сочинений! Но ведь рано или поздно придется на это пойти — мы живем не во времена трубадуров. Тем более что, отказываясь публиковать стихи, Федерико все равно не в силах помешать их распространению в списках, сделанных по памяти, с ошибками и искажениями! Так не лучше ли взять дело в собственные руки?
Приготовившийся к длительной осаде, Эмилио озадачен легкостью, с какою на этот раз удается сломить сопротивление Федерико. Боясь, как бы приятель не передумал, он торопится в Малагу со своим трофеем — школьной папкой, набитой исписанными листочками, а Федерико садится заканчивать «Цыганский романсеро».
Андалусская осень уже позеленила поля, склоны гор усыпаны нарциссами и гиацинтами, а Федерико все не спешит в Мадрид, и родители видят в этом доброе предзнаменование. Сын с утра до ночи занимается в своей комнате — глядишь, и дождется вакансии... Однажды утром донья Висента, волнуясь, протягивает ему конверт, надписанный незнакомой рукой, — из Вальядолида, университетского города. Уж не извещение ли о конкурсе, не официальное приглашение ли? Но Федерико достает из конверта номер газеты «Кастильский Север», и мать, читая через его плечо строки, обведенные красным карандашом, испытывает смешанное чувство — разочарования и гордости.
«Этот вечер, — напечатано там, — стал для меня чудесным открытием. Федерико Гарсиа Лорка еще неизвестен. Не пришло еще время для того, чтобы дети пели хором его романсы, а девушки повторяли тайком его песни. Но такой день наступит, и тогда я смогу сказать: «Я был одним из первых, кто видел его и слышал, и я не ошибся».
И — подпись: Мануэль Коссио.
11
«Сеньору Хорхе Гильену, профессору литературы
в университете города Мурсии.
Гранада, 8 ноября 1926 г.
Гильен! Гильен! Гильен! Гильен!
Зачем покинул ты меня?
Нехорошо. Я все время жду письма от тебя, а письма нет. Ты знаешь, что мои стихи уже в типографии?
...Тем не менее не могу не послать тебе этот отрывок из «Романса о гражданской гвардии», который я сейчас сочиняю.
Я начал его два года тому назад... помнишь?
Их кони черным-черны,
и черен их шаг печатный.
На крыльях плащей чернильных
горят восковые пятна.
Надежен свинцовый череп —
заплакать жандарм не может;
проходят, стянув ремнями
сердца из лаковой кожи.
Это пока еще пробный кусок. А дальше...
Полуночны и горбаты,
несут они за плечами
песчаные смерчи страха,
клейкую тьму молчанья.
От них никуда не деться —
мчат, затая в глубинах
тусклые зодиаки
призрачных карабинов.О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь увешан.
Желтеют луна и тыква,
вскипает настой черешен.
И кто увидал однажды,
забудет тебя едва ли,
город имбирных башен,
мускуса и печали!Ночи, колдующей ночи
синие сумерки пали.
В маленьких кузнях цыгане
солнца и стрелы ковали.
Раненый конь в тумане
печаль поверял полянам.
В Хересе-де-ла-Фронтера
петух запевал стеклянно.
И крался проулками тайны
ветер лесных одиночеств
в сумрак, серебряный сумрак
ночи, колдующей ночи.Иосиф и божья матерь
к цыганам спешат в печали —
они свои кастаньеты
на полпути потеряли.
Мария в бусах миндальных,
как дочь алькальда, нарядна,
шуршит воскресное платье,
блестит фольгой шоколадной.
Иосиф плащ развевает
в толпе танцоров цыганских.
А следом Педро Домек
и три царя персианских.
На кровле грезящий месяц
дремотным аистом замер.
Взлетают огни и флаги
над сонными флюгерами.
В глубинах зеркал старинных
рыдают плясуньи-тени.
В Хересе-де-ла-Фронтера —
полуночь, роса и пенье.О звонкий цыганский город!
Ты флагами весь украшен...
Гаси свой огонь зеленый —
все ближе черные стражи!
Забыть ли тебя, мой город?
В тоске о морской прохладе
ты спишь, разметав по камню
не знавшие гребня пряди...
И так далее, и так далее...
Вот до этого места я дошел. Здесь появляется гражданская гвардия и разрушает город. Затем жандармы возвращаются в казарму и там пьют анисовую настойку «Касалья» за погибель цыган. Сцены грабежа будут великолепны. По временам гвардейцы, неизвестно почему, станут превращаться в римских центурионов. Этот романс будет длиннейшим, но и одним из лучших. Заключительный апофеоз гражданской гвардии будет волнующим.
Как только закончу этот романс и «Романс о мучениях цыганки Святой Олалии из Мериды», буду считать книгу завершенной... Надеюсь, что это хорошая книга. Отныне не коснусь больше — никогда! никогда! — этой темы.
Прощай...
Гильен! Гильен! Гильен! Гильен!
Зачем покинул ты меня?
Федерико».
Правда, закончить «Романс о гражданской гвардии» удается не сразу. Еще много часов проводит Федерико за рабочим столом, напоминая себе охотника, потерявшего след. Замысел, казалось бы, продуманный до конца, повисает в пустоте, заготовленные строки не желают соединяться.
Вновь и вновь перечитывает он написанное. Нет, он не ошибся, до сих пор все — себе в этом можно признаться — безупречно. И гражданская гвардия — зримое, осязаемое воплощение власти, тупой и безжалостной. И выстроенная его воображением, населенная его мечтами цыганская столица Херес-де-ла-Фронтера, ничего общего, кроме имени, не имеющая с реальным Хересом — сонным и пыльным городом, где и цыган-то не осталось. И дева Мария с Иосифом — не величественные небожители, а герои крестьянских легенд, действующие лица знакомой каждому с детства евангельской трагедии.
Трагедии? А разве то, что разыграется здесь, не трагедия, и сам он не участник ее? Ведь гибель вольного цыганского города — это смерть и его поэзии, его сказки! Не потому ли романс так упрямо не хочет двигаться к намеченному финалу, что финал этот, с превращениями гвардейцев в римских центурионов, с заключительной картиной их торжества, недостаточно строг и скорбен?
Так освобождается замысел от всего лишнего. Остается боль. Остается ненависть. Тогда приходят единственные, необходимые строки:
Они въезжают попарно,
а город поет и пляшет.
Бессмертников мертвый шорох
врывается в патронташи.
Они въезжают попарно,
спеша, как черные вести,
и связками шпор звенящих
мерещатся им созвездья.А город, чуждый тревогам,
тасует двери предместий...
Верхами сорок жандармов
въезжают в гомон и песни.
Застыли стрелки часов
под зорким оком жандармским.
Столетний коньяк в бутылках
прикинулся льдом январским.
Застигнутый криком флюгер
забился, слетая с петель.
Зарубленный свистом сабель,
упал под копы га ветер.Снуют старухи цыганки
в ущельях мрака и света,
мелькают сонные пряди,
мерцают медью монеты.
А крылья плащей зловещих
вдогонку летят тенями,
и ножницы черных вихрей
смыкаются за конями.У белых врат Вифлеемских
цыгане ищут защиты.
В слезах и ранах Иосиф
поник у тела убитой.
Всю ночь напролет винтовки
поют высоко и грозно.
Всю ночь цыганят Мария
врачует слюною звездной.
И снова скачут жандармы,
кострами ночь засевая,
и бьется в пламени сказка,
прекрасная и нагая.
И стонет Роса Камборьо,
а рядом, стоя на блюде,
дымятся медные чаши
ее отрубленных грудей.
За косы ловят жандармы
плясуний легкую стаю,
и черный порох во мраке
огнями роз расцветает.
Когда же пластами пашни
легла черепица кровель,
заря обняла безмолвно
холодный каменный профиль...
Нет больше звонкого цыганского города. И только над сердцем поэта не властна черная сила. Выход — в творчестве. Иного выхода Федерико не знает.
О мой цыганский город!
Прочь жандармерия скачет
черным туннелем молчанья,
а ты — пожаром охвачен.
Забыть ли тебя, мой город!
В глазах у меня отныне
пусть ищут далекий отсвет.
Игру луны и пустыни.
12
На этот раз Федерико застал в Резиденции новое увлечение — ана́глифы. Неизвестно кем занесенная игра распространилась с быстротой эпидемии. Анаглифы сочиняли на лекциях и семинарах; ежедневно устраивались конкурсы на лучший анаглиф, и дон Альберто, увидев далеко за полночь светящиеся окна в студенческом корпусе, сокрушенно покачивал головой: опять эти проклятые анаглифы!
Чтобы составить анаглиф, требовалось подобрать и расположить в виде стихотворной строфы три слова — существительных либо имен собственных. Первое повторялось дважды, второе было постоянное — «курица», а третье — в этом-то и заключалась вся штука! — никоим образом не должно было находиться в логической связи ни с первым, ни со вторым.
Выполнить это условие оказывалось непросто. Так, анаглиф:
лестница,
лестница,
курица
и бродяга —
браковался, как чересчур содержательный, чуть ли не сюжетный. Ведь «бродягу» легко было связать с «лестницей», по которой, преследуя свою преступную цель, мог взобраться за «курицей» третий член анаглифа. И столь же сурово был отвергнут анаглиф:
выстрел,
выстрел,
курица
и майор,
ибо каждому ясно, что стрельба — в том числе и по курице — самое подходящее занятие для военного. Удовлетворительным признавался лишь анаглиф, свободный от всякого подобия смысла. Например:
солнце,
солнце,
курица
и преамбула.
Игра понравилась Федерико. Он быстро освоил ее секреты, одержал несколько побед и вскоре выступил в роли реформатора, предложив анаглиф в стиле барокко — такой, где вместо третьего слова ставилась целая фраза:
Гильермо де ла Торре,
Гильермо де ла Торре,
курица,
и неподалеку отсюда сейчас пронесется
пчелиный рой.
Забава эта на первый взгляд ничем, кроме повального своего характера, не выделялась из ряда других развлечений, заслуживших обитателям Рези шумную репутацию. Куда скандальнее были, скажем, сборища «Ордена толедских братьев»: члены ордена во главе с великим магистром Луисом Бунюэлем отправлялись в Толедо и там поздней ночью, завернувшись в простыни, захваченные из гостиницы, блуждали по улицам, наводя ужас на случайных прохожих и порождая легенды о привидениях. Или разнообразные розыгрыши, жертвами которых нередко становились весьма почтенные лица, одолевавшие потом дона Альберто своими жалобами!
И все же ни одна выходка не огорчала сеньора Хименеса так, как анаглифы. Самые отчаянные проказы можно было объяснить молодостью, избытком сил, перехлестывающих через край. Но что заставляло неглупых, одаренных, молодых и не таких уже молодых людей самозабвенно отдаваться нагромождению нарочитой бессмыслицы, как будто без того ее мало на свете? Это выглядело уже не шуткой, не игрой, в этом виделось, если угодно, некое знамение, едва ли не символ настроений, охвативших в последнее время большую часть интеллигенции, особенно гуманитарного склада.
Казалось бы, дела обстояли неплохо. Нападки на Резиденцию ослабли — возможно, и потому, что питомцы ее почти не были замешаны в студенческих волнениях. В министерстве дону Альберто дали понять, что сам Примо де Ривера не прочь побывать на Тополином холме, — если он останется доволен, можно будет подумать и о том, чтобы передать Резиденции прилегающую к ней территорию.
Да и вообще политический климат в стране, по мнению дона Альберто, неуклонно смягчался. Как бы то ни было, диктатор оказался-таки вынужден заменить Военную директорию гражданским правительством (во главе которого, правда, стоит по-прежнему он со своими сподвижниками, а все же...). Рост общественного недовольства заставил генерала пойти и на ликвидацию ненавистного института правительственных делегатов на местах, а теперь вот он обещает созвать Национальную ассамблею вместо распущенных кортесов. Участие же в Ассамблее может открыть оппозиции дорогу к легальной деятельности — так по крайней мере считает старый друг сеньора Хименеса, Фернандо де лос Риос.
При этом дон Альберто искренне восхищался и теми из своих друзей, которые, как Унамуно и Бласко Ибаньес, атаковали Примо де Риверу из-за рубежа или, оставаясь в Испании, как Антонио Мачадо, Валье-Инклан, Хосе Ортега-и-Гассет, мужественно выступали против диктатора. Восхищался, но не завидовал. Каждому свое. Кто-то ведь должен был делать то, что делал он, — наперекор всему воспитывать вверенную ему молодежь в традициях свободомыслия и терпимости, удерживать ее от поспешных и опрометчивых действий, сохранять ее и готовить для лучших времен, когда страна возвратится, наконец, на путь нормального конституционного развития.
Так надо же! Снова, как без малого десять лет назад, незаметно подкравшаяся опасность угрожала свести на нет его труд. Это был рецидив той же самой болезни духа, которую занесло в Испанию из Парижа в первые послевоенные годы. В условиях диктатуры дурное семя дало богатые всходы на испанской земле; европейское поветрие превратилось в целую систему взглядов, своего рода программу — отказ от логического познания, недоверие, если не презрение, к разуму, культ интуиции, — завоевывавшую все больше сторонников и в его Резиденции. Увлечение анаглифами, конечно, было лишь одним из симптомов этой болезни. А сколько подобных симптомов глядело на него с полотен, писавшихся на Тополином холме, со страниц сочинявшихся здесь книг, сколько их встречалось ему в студенческих спорах и даже в лекциях уважаемых профессоров!
Разумеется, сеньор Хименес был далек от того, чтобы приписывать происходящее в Резиденции разлагающему влиянию одного человека. Но, предаваясь тревожным мыслям, он все-таки не мог не думать об этом человеке — о Сальвадоре Дали, о толпе приверженцев, сопровождающих молодого, надменного каталонца и восторженно подхватывающих его слова, в которых таится отрава. С горечью замечал он, что даже его любимец, Федерико Гарсиа Лорка, приехав из Гранады, не удосужился до сих пор зайти... ну, пусть не к нему, но хотя бы к Хуану Рамону, своему, можно сказать, поэтическому наставнику! — зато с Сальвадором Дали не разлучается ни на минуту.
Дон Альберто расстроился бы еще более, если б узнал, какие речи ведет с его любимцем Сальвадор, недавно исключенный из Академии изящных искусств за то, что отказался сдавать экзамен трем маститым живописцам, громогласно обвинив их в невежестве и бездарности. Да, он так и сказал им: довольно ползать на коленях перед натурой! Что касается его, Сальвадора, то он не намерен больше подавлять и насиловать свое воображение в угоду так называемой действительности. Он охотно уступает эту действительность эпигонам импрессионизма — пусть копируют ее, отражают, воспроизводят. Пусть кубисты потрошат предметы в детской надежде постигнуть тайну их бытия — ему надоело. Сальвадор Дали отныне станет использовать формы реального мира, но для того, чтобы пересоздавать этот мир, творить его заново, повинуясь только своим необузданным желаниям, всецело доверяясь своим инстинктам.
Он продемонстрировал Федерико картину, выполненную в новой манере: знакомый пустынный пляж Кадакеса, голубоватые горы вдали, а на переднем плане — концертный рояль, слегка зарывшийся ножками в песок. Из песка поднимается отвратительный полип, врастающий в клавиатуру. Каждая деталь была выписана с академической тщательностью, все же вместе походило на скверный сон.
Этого-то художник и добивался — открыть доступ в живопись снам, бреду, подсознательным импульсам, в которых, как он утверждал, заявляет о себе подлинная, не стесненная никакими запретами сущность человека. Теперь разговор шел уже не о нем одном, а о судьбах всего современного искусства. То целыми страницами цитируя Фрейда на память, то насмехаясь над нынешними просветителями с их старомодным благоразумием (доставалось тут и либеральному дону Альберто и прекраснодушному сеньору де лос Риосу), Сальвадор красноречиво доказывал, что искусство в его прежнем виде окончательно исчерпало себя, зашло в тупик. Выход один — прорваться к стихийным силам, таящимся под оболочкой цивилизации. И прежде всего — высвободить эти силы в себе самом, впустить их в свое творчество, выучиться видеть вещи в их сверхреальном значении!
Не в первый раз слышал Федерико подобные вещи, но никогда еще он не слушал их так внимательно. Не все в речах друга было ему понятно, а из понятого — не все нравилось, но какие-то мысли Сальвадора перекликались с его собственными мыслями, в каких-то словах чудился ответ на неотвязные собственные вопросы.
Дело было не в Сальвадоре Дали. В мире действительно что-то менялось, для поэзии на земле не оставалось места. У него еще была его Андалусия, но надолго ли? Источник, поивший его столько лет — с начала работы над стихами о канте хондо, — начинал иссякать: Федерико чувствовал это, заканчивая «Цыганский романсеро». Что же дальше? Перепевать самого себя?
Испанскому безвременью не видно было конца: то новый цензурный запрет, то очередная выходка Мигелито, то известие о чьем-нибудь аресте или высылке... Федерико все чаще казалось, что и сам он и все его друзья живут под огромным стеклянным колпаком, откуда постепенно выкачивается воздух. Опять он просыпался ночами от удушья, от черной тоски, только теперь и воображение не помогало — листок на стуле возле кровати оставался нетронутым.
Но если поэзии на земле нет места, то можно ведь оторваться от земли, взлететь над нею? Выпустить на свободу все сны, дать волю самой безудержной фантазии, распрощаться с законами логики и унылому организованному абсурду окружающей жизни противопоставить свою бессмыслицу — дерзкую, озорную!
По-видимому, эти идеи носились в воздухе: почти то же твердили друзья-поэты — Рафаэль Альберти, Херардо Диего. Как откровение читали они выпущенный еще два года назад манифест французских сюрреалистов, находя в нем знакомые тревоги и поиски. Федерико одним из первых попробовал писать в новой манере. Бурным успехом в Резиденции пользовалась его короткая пьеска «Прогулка Бестера Китона», алогизм которой оставил далеко позади все анаглифы. Начиналась она с того, что Бестер Китон — популярнейший герой американских кинокомедий — деревянным кинжалом обезглавливал своих четырех детей и уезжал на мотоцикле в поисках приключений.
В Гранаду, где Федерико встречал новый, 1927 год, пришел из Малаги свежий номер журнала «Литораль». Развернув его, Федерико увидел несколько своих романсов, обрадовался... и почти сразу же пришел в неописуемое отчаяние.
«Ты видел, что за ужас — мои романсы? — писал он несколько дней спустя Хорхе Гильену. — Они содержат более десяти — десяти! — чудовищных опечаток и совершенно испорчены... Как больно мне было, дорогой Хорхе, видеть их изуродованными, изгаженными, лишенными той кремневой твердости и кремневой тонкости, какими, казалось, они обладают! Эмилио обещал прислать корректуру, но не сделал этого. В то утро, когда был получен журнал, я плакал, буквально плакал с досады!»
Дело едва не дошло до полного разрыва с Прадосом. Но Федерико был отходчив. Эмилио удалось оправдаться, а там и получить окончательное разрешение на публикацию «Песен». Отправив ему телеграмму, где стояло одно только слово: «Да», Федерико повеселел. В следующем письме Гильену он уже просил передать маленькой Тересите, что собирается сочинить для нее сказку о курице, носившей платье со шлейфом и огромную шляпу в дождливые дни. Он пообещал ей также сказку о жабе, которая играла на пианино и пела всякий раз, как ей давали пирожное.
А еще через несколько дней Сальвадор Дали известил Федерико о том, что известная каталонская актриса Маргарита Ксиргу прочла пьесу «Мариана Пинеда» и собирается поставить ее — разумеется, если автор согласен.
Согласен ли автор? ДА! ДА! ДА!
13
Красавица Барселона, как ты нарядна весной, когда, осажденная с трех сторон бурной зеленью, врывающейся в предместья, ты отступаешь к синему морю, над которым полощутся флаги всех наций! Какой залихватской кистью раскрашена, как благоухает, свистит и щебечет твоя знаменитая Рамбла — наверное, единственный в мире бульвар, где по правую и по левую руку тянутся чуть не на километр столы, заваленные ворохами цветов, уставленные птичьими клетками!
Утверждают, что ни один барселонец не заснет спокойно, если хоть раз в день не пройдется по Рамбле, не перекинется словом с разбитными цветочницами. Что же говорить о приезжем, да еще о таком, который явился в этот город затем, чтобы покорить его своей пьесой! Федерико дня не хватало — он разгуливал по Рамбле и поздно ночью, когда пусты мокрые оцинкованные прилавки и только гвоздичный запах все еще стоит в воздухе.
Пока что Барселона покорила его — и не только своей красотой. Люди здесь чувствовали себя свободнее, обо всем на свете судили, не понижая голоса, и честили правительство, как хотели. Мадрид казался отсюда усталым и старомодным; близость Франции ощущалась во всем. Сальвадор — в Барселоне он чувствовал себя как дома — свел Федерико с компанией художников, писателей, критиков, с гордостью называвших себя авангардистами. Все они были отчаянно молоды и в вопросах искусства, как и в остальных, придерживались самых крайних взглядов. Поэта из какой-то там захолустной Гранады они встретили покровительственно. Впрочем, потребовался один лишь вечер, чтобы отношение к нему резко переменилось.
«Вот человек, всем своим существом излучающий юг, — записал у себя в дневнике начинающий критик Себастьян Гаш. — Выглядит он так: смуглая кожа, блестящие, полные жизни глаза, густые черные волосы и гвоздика в петлице серого пиджака. Юношески горячий, порывистый, разговорчивый и лаконичный в одно и то же время, он наделен молниеносным воображением: каждая фраза — замысел, каждое слово — стих».
Маргарита Ксиргу, о которой Федерико столько слышал, оказалась не очень молодой женщиной весьма ординарной внешности — повстречаешь такую на улице и не оглянешься. Держалась она как-то буднично, разговаривала деловито, избегая тех слишком уж выразительных интонаций, которые отличают речь большинства артистов и в частной жизни. Только в глазах ее — черных, немигающих, — то разгорались, то затухали крохотные угольки. Тяжелый, цепкий, изучающий взгляд этих глаз собеседник ощущал на себе непрестанно. Даже в те моменты, когда Маргарита склонялась над рукописью пьесы или смотрела в сторону, Федерико не оставляла уверенность, что ни одно его движение не укрывается от нее.
После громких похвал, расточавшихся «Мариане Пинеде» теми, кто — о, разумеется, по не зависящим от них причинам! — отказывался ее поставить, Федерико был несколько обескуражен трезвостью, с какой эта женщина судила о собственно театральных качествах его пьесы, уязвлен ее замечаниями по поводу недостаточной сценичности отдельных мест. Он заспорил было. Актриса возражала — вежливо, доказательно, твердо. Угольки в ее глазах разгорелись. Стало видно, что и вправду она справляется с целой труппой. Стало ясно и то, что она умна, образованна и в законах сцены разбирается лучше, чем Федерико.
Несколько дней просидел он с Маргаритой Ксиргу над окончательным текстом пьесы. Это были хорошие дни. Федерико узнал немало такого, что следует знать человеку, желающему писать для театра. А Маргарита с его помощью погрузилась в атмосферу старой Гранады, наслушалась андалусских песен, которые Федерико пел ей часами, усевшись за пианино и запрокинув голову.
Как-то, придя к Маргарите Ксиргу, Федерико не нашел ее в кабинете, где они обычно работали. Служанка передала, что сеньора просит его немного подождать. Время шло, Федерико начал уж недоумевать, когда, наконец, актриса появилась из боковой двери. Она вошла легко и стремительно, чем-то встревоженная, неумело пытаясь скрыть свою тревогу. Ни слова еще не было произнесено, но он видел перед собой Мариану Пинеду. Она выглядела не совсем так, как он думал — старше, с печатью обреченности на лице, — однако именно эта Мариана была настоя-' щей, иную он теперь не мог бы себе представить.
Федерико не удивился, когда она обратилась к нему со словами роли. Он подхватил игру, стал подавать реплики за остальных действующих лиц. С каждой минутой Маргарита — Мариана все больше казалась ему знакомой — Федерико мог бы поклясться, что уже видел где-то такое же сумрачное выражение обращенных внутрь, как бы прислушивающихся, глаз. И вдруг, когда эта женщина, услышав, что какой-то узник бежал из тюрьмы, задохнулась на миг и положила руку на горло, он узнал, словно в зеркале, свой собственный жест, унаследованный от матери, — характерный лоркинский жест, свидетельствующий о крайнем волнении. Так вот что значил тот пристальный, цепкий взгляд!
Он возмутился: как она смела?! Потом подумал: но ведь, сочиняя пьесу, он и в самом деле был Марианой Пинедой. Потом ему стало смешно: передразнивал других, а вот и его передразнили! Мысли эти мелькнули одна за другой, репетиция между тем продолжалась, они прошли весь первый эстамп. В конце концов он так ничего и не сказал Маргарите — играла она превосходно, победителей же, как известно, не судят.
Декорации к спектаклю должен был написать Дали, но он никогда не бывал в Гранаде, поэтому Федерико сделал наброски — гостиную в доме Марианы, дворик монастыря святой Марии Египетской, куда заточили Мариану перед казнью. Увидев у Сальвадора эти эскизы, Себастиан Гаш заинтересовался: может, у Федерико есть и другие рисунки? Было бы любопытно взглянуть!
Других рисунков оказалось немало. С некоторых пор Федерико стал прибегать к ним в тех случаях, когда чувства, бродившие в нем, не укладывались в слова. Одними беглыми линиями он чертил фигуры разбойников — не свирепых, а грустных, цыганок с распущенными волосами, моряков, за плечами которых вились ленточки, изображал странных рыб с человеческими глазами, поникшие, будто раненые, цветы в кувшине... Контуры людей и предметов совмещались, пересекались, рождая причудливые графические метафоры. Наброски были по-детски наивны и по-детски же выразительны, а впечатление производили трагическое. Контраст этот особенно поразил Себастиана, тут же предложившего устроить выставку рисунков Федерико, приурочив ее к премьере «Марианы Пинеды».
Предложение застало Федерико врасплох — рисовал он для собственного удовольствия, ни о чем подобном не думая. А что скажет Сальвадор? Сальвадор поддержал идею Гаша с горячностью — у него были на это свои причины. В глубине души ему давно уже стало ясно, что лишь полностью подчинив Федерико своей воле, он избавится от приступов унизительной, тайной ненависти к другу. И в последнее время это, казалось бы, начало ему удаваться — Федерико был почти во всем с ним согласен, восхищался его работами, написал даже «Оду Сальвадору Дали», опубликованную в мадридском журнале «Ре-виста де Оксиденте». И все-таки Сальвадор не чувствовал себя победителем. Он-то знал — быть может, лучше, чем кто-либо, — с каким упорством, скрытым под внешней мягкостью и уступчивостью, отстаивает Федерико свою крестьянскую цельность, свою стихийную, нерассуждающую веру в добро. Он догадывался, что и теперь Федерико повинуется не ему, а внутреннему своему голосу, бредет собственной неисповедимой тропой, которая только на миг совпала с его, Сальвадора, расчисленным путем. В любую минуту тропа эта может свернуть в сторону и Федерико вырвется из-под его влияния... Нет, на территории поэзии с этим андалусцем не совладать!
Вот рисунки — иное дело. Здесь на стороне Сальвадора был и талант и опыт, здесь Федерико действительно был не более чем ученик и, кстати, — чей ученик? Беспомощность набросков, восхитивших Гаша, очевидна, но очевидно и то, что их автор неплохо знаком с графикой Сальвадора Дали, внимательно прислушивался к его советам. Барселона — свидетельница уже нескольких триумфов Дали... Что ж, устроим Федерико выставку в Барселоне!
14
А пока в театре Гойя идут репетиции, Федерико гостит у Дали в Кадакесе. Снова море будит его по утрам, снова Анна Мария — как она выросла и похорошела за эти два года! — хозяйничает в столовой, мимо окон которой ходят то и дело заплаканные женщины в трауре — вдовы рыбаков, пришедшие посоветоваться с нотариусом.
Сальвадор яростно трудится целыми днями, запершись наверху; Федерико тоже пробует работать. Беседы с Маргаритой Ксиргу не прошли даром — ему хочется писать для театра, и здесь, в Кадакесе, память подсказывает ему сюжет, древний, как эти берега. За несколько дней он набрасывает план трагедии «Самопожертвование Ифигении».
Стоит, однако, появиться в дверях Анне Марии,
как Федерико кладет перо и они отправляются на прогулку — в оливковую рощу, к скалам либо просто вдоль песчаного берега. Ему по душе эта девушка, живая и наблюдательная, он готов без конца слушать ее рассказы о жителях поселка — здесь она знает каждого встречного, — о невыдуманных драмах, разыгрывающихся под крышами рыбацких хижин. Присутствие Анны Марии помогает ему преодолеть свой страх перед морем. Вдвоем они совершают поездки на лодке, и однажды не замеченная вовремя волна едва не выбрасывает их на скалы мыса де Креус. После этого к сценкам, которыми Федерико потешает по вечерам семью Дали, прибавляется новая: «Бедный андалусец, потерпевший кораблекрушение».
Ни с одним человеком не чувствует себя Анна Мария так легко и свободно, как с Федерико. Теперь ей все в нем нравится — даже мнительность и изнеженность, даже то, что Федерико в те минуты, когда он не поет, не читает стихи, не показывает свои сценки, бывает и неловок и неуклюж. Про себя она сравнивает его с лебедем, который тоже ведь изящен и легок только в родной стихии, а поглядите-ка на него, когда он шагает, переваливаясь по земле!
Не нравится Анне Марии лишь то, что, постоянно бывая наедине с Федерико, она тем не менее ни на миг не бывает по-настоящему наедине с ним. Ревнивым женским чутьем угадывает она целый рой невидимых существ, которые рождаются в фантазии Федерико и повсюду сопровождают его. Он болтает, смеется, слушает ее истории, а тени этих существ все время пробегают по его лицу, их отражения возникают в глубине его глаз. Любая фраза, западающая в его память, может пустить там корни, обрасти подробностями, положить начало целому характеру... и вот уже Анна Мария не знает, кто перед нею — Федерико или кто-то другой, завладевший его воображением.
Ну, а в жизни — не в воображении — удастся кому-нибудь завладеть этим неуловимым человеком, который, словно не довольствуясь земной оболочкой, продолжается и множится в своих бесконечных вымыслах? Быть может, той, кого он полюбит? Едва ли! Да и какая девушка захочет связать с ним свою судьбу? Это все равно что выйти замуж за ветер!
В сердцах она так и говорит ему. За ветер? Федерико растерянно улыбается; Анна Мария готова уже пожалеть о своих словах, но знакомое, отсутствующее и вместе с тем азартное выражение, мелькнувшее на его лице, останавливает ее.
Вечером сидят на террасе, не зажигая света. Успокоившееся море, полное звезд, сливается с небом, так что не разберешь — то ли небо подкатывается к ногам, то ли море нависло над головой. Федерико предлагает прочесть новое стихотворение — собственно говоря, это еще одна сценка, только в стихах. Называется — «Школа».
Сперва он молча показывает действующих лиц — строгого, торжественного учителя, мальчика, вытянувшегося у доски. Это и в самом деле школа, только странный идет в ней урок.
УчительКто замуж выходит за ветер?
Ребенок
Госпожа всех желаний на свете.
Учитель
Что дарит ей к свадьбе ветер?
Ребенок
Из золота вихри и карты всех стран на свете.
Учитель
А что она ему дарит?
Ребенок
Она в сердце впускает ветер.
Учитель
Скажи ее имя.
Так и видишь его руку, занесенную над классным журналом, чтобы поставить, наконец, заслуженную отметку. Сердце Анны Марии колотится учащенно — разумеется, она не ждет ничего особенного, а все же...
РебенокЕе имя держат в секрете.
Он говорит это важно и таинственно — ученик с учителем словно поменялись ролями. «За окном школы — звездный полог», — понизив голос до шепота, произносит Федерико последнюю строку. Хорошо, что Анна Мария уже не та девчонка, которая могла когда-то выбежать, разрыдавшись. Да и с чего бы ей разрыдаться? И все же она довольна, что в темноте никто не видит ее лица.
В середине июня друзья возвращаются в Барселону. Последние дни перед премьерой проходят в лихорадочной спешке. В день спектакля Маргарита Ксиргу мимоходом спрашивает у Федерико, где он будет сидеть. В директорской ложе? Напрасно! Она посоветовала бы ему усесться где-нибудь в зале, а то и на галерке, среди людей, не подозревающих, что он автор. И еще одно, — тут Маргарита кладет ему руки на плечи. — Не следует ожидать большого успеха. «Мариана Пинеда» — хорошая пьеса, но избалованную барселонскую публику ею не удивишь. Вот в Мадриде — а Маргарита непременно покажет ее в Мадриде — спектакль прозвучит по-другому. И все-таки пусть Федерико помнит, что лучшая его пьеса еще впереди!
Так оно и выходит. Спектакль принят зрителями тепло, но и только. Если к тому же принять во внимание, что Ксиргу — любимая актриса Барселоны и что декорации Сальвадора Дали действительно хороши, то на долю автора остается совсем немного.
Но Федерико думает не об этом. Чем полнее оживает перед ним Мариана Пинеда, тем очевидней становится несовершенство пьесы. Маргарита Ксиргу, конечно, права, законы сцены необходимо знать — только не затем, чтобы рабски им покоряться, а затем, чтобы взламывать их основательней, чем это сделал он, остановившийся на полдороге.
Да, он вывел свою поэзию на подмостки. Не из «поэзии вообще», а именно из его поэзии вырос характер Марианы, возникли слова, звучащие теперь со сцены, возникла вся атмосфера спектакля. Но поэзия не была здесь той главной силой, которая движет театральное действие, не стала еще полноправной хозяйкой. Словно боясь поверить в свое могущество, она прибегала порой к помощи приемов романтического театра, к эффектам почти мелодраматическим... Ну что ж! Зато теперь Федерико понимает, что ему нужно. Его лучшая пьеса впереди, Маргарита и тут права.
Не пользуется особым успехом и его выставка, открывшаяся 25 июня в галерее Дальмау. Энтузиазма приятелей хватает на первый день, а назавтра помещение уже пустует. Только Сальвадор Дали, верный друг, все бродит вдоль стен, все вглядывается в развешанные рисунки.
Он вглядывается в эти дилетантские наброски, и постепенно их откровенная детскость, пронзительный их трагизм помимо воли захватывают его. Какие цыганские колдуньи ворожили этому андалусцу? На всем, к чему бы он ни прикоснулся, так и оттискивается печать его личности! И с внезапной ясностью Сальвадор отдает себе отчет в том, что уже не надеется подчинить себе Федерико, что хочет лишь одного — не видеть его, не слышать, навсегда позабыть о нем.
15
Нужно быть Маргаритой Ксиргу, чтобы отважиться показать «Мариану Пинеду» в столице именно в те дни, когда там идет совсем другой спектакль, поставленный самим Примо де Риверой! Официальное название этого спектакля — первая сессия Национальной ассамблеи, его цель — создать видимость возврата к представительному правлению, его судьба — провалиться еще до начала. Ибо из всех кто, по мысли диктатора, должен был сообщить правдоподобие и убедительность предпринятой им инсценировке, никто почти не согласился в ней участвовать. Республиканцы заявили, что будут бойкотировать эту ублюдочную Ассамблею, обладающую лишь совещательными правами... Но что говорить о республиканцах, когда даже престарелый лидер монархистов Санчес Герра демонстративно покинул страну, призвав поднять знамя сопротивления! А социалисты, которым Примо де Ривера, полагаясь на их лояльность, выделил несколько мест в своем псевдопарламенте, отплатили черной неблагодарностью — специально созванный Чрезвычайный съезд социалистической партии большинством голосов не только постановил воздержаться от участия в Ассамблее, но и выразил категорический протест против режима диктатуры.
Пожалуй, впервые генерал встречает подобный афронт. Напрасно раздает он роли наспех натаскиваемым статистам, напрасно заявляет в речах, что лишь теперь, впервые в веках, Испания управляется народом и для народа, — в глубине души он сам понимает, что представление не удалось и что одурачить испанцев еще труднее, чем запугать. Впрочем, и запугать их уже не удается: интеллигенция окончательно вышла из повиновения, молодежь волнуется, демонстрации вспыхивают по любому поводу.
Мудрено ли, что в такой обстановке премьера пьесы, посвященной героине и мученице борьбы за свободу, оказывается в центре всеобщего внимания? Имя автора к тому же популярно в артистических и литературных кругах Мадрида — его новая книга «Песни» у всех на устах. Вечером 12 октября 1927 года зал театра Фонтальба переполнен.
...Сеньора Пиляр, привратница одного из пансионов, где живут по преимуществу молодые художники, литераторы, студенты, навряд ли попала бы на эту премьеру, если бы не бесплатный пропуск, преподнесенный ей кем-то из тех, кого она частенько впускает в дом под утро, а то и ссужает мелочью на трамвай. В лучшем своем платье сидит она на галерке, сложив на коленях руки, стараясь не подать виду, что редко бывает в театре. Но вскоре она осваивается — публика вокруг почти та же самая, что и у нее в пансионе. Взять хоть ее соседа, примостившегося на откидном стуле, — вроде бы и не так уж молод, а ведет себя, как мальчишка, смотрит больше по сторонам, чем на сцену, то начинает гримасничать, то будто сам с собой разговаривает.
Все же этот парень — смуглый, широколобый, с черными, гладко зачесанными назад волосами — чем-то располагает к себе сеньору Пиляр, и она благосклонно откликается на его простодушную попытку завязать с ней разговор в антракте. У нее есть собственное мнение о героине пьесы. Ей, конечно, жаль Мариану, но зачем, спрашивается, нужно было этой вдове впутываться в политику? Пусть мужчины занимаются такими делами, место женщины — на кухне!
Однако глубокий, грудной голос Маргариты Ксиргу, музыка стихов, несущаяся со сцены, мало-помалу оказывают свое действие на сеньору Пиляр. Когда занавес опускается во второй раз, она утирает слезу. Бедняжка Мариана, вот теперь она пойдет в тюрьму из-за этого сеньора, который даже не остался с нею в минуту опасности! Поведение Педро Сотомайора возмущает сеньору Пиляр до глубины души. Ее Николас — между нами, он старый республиканец — никогда бы не поступил подобным образом. У него есть свои слабости, но если б ему сказали, что жену его собираются казнить за то, что она вышила знамя... да он бы из этого негодяя судьи лепешку сделал!
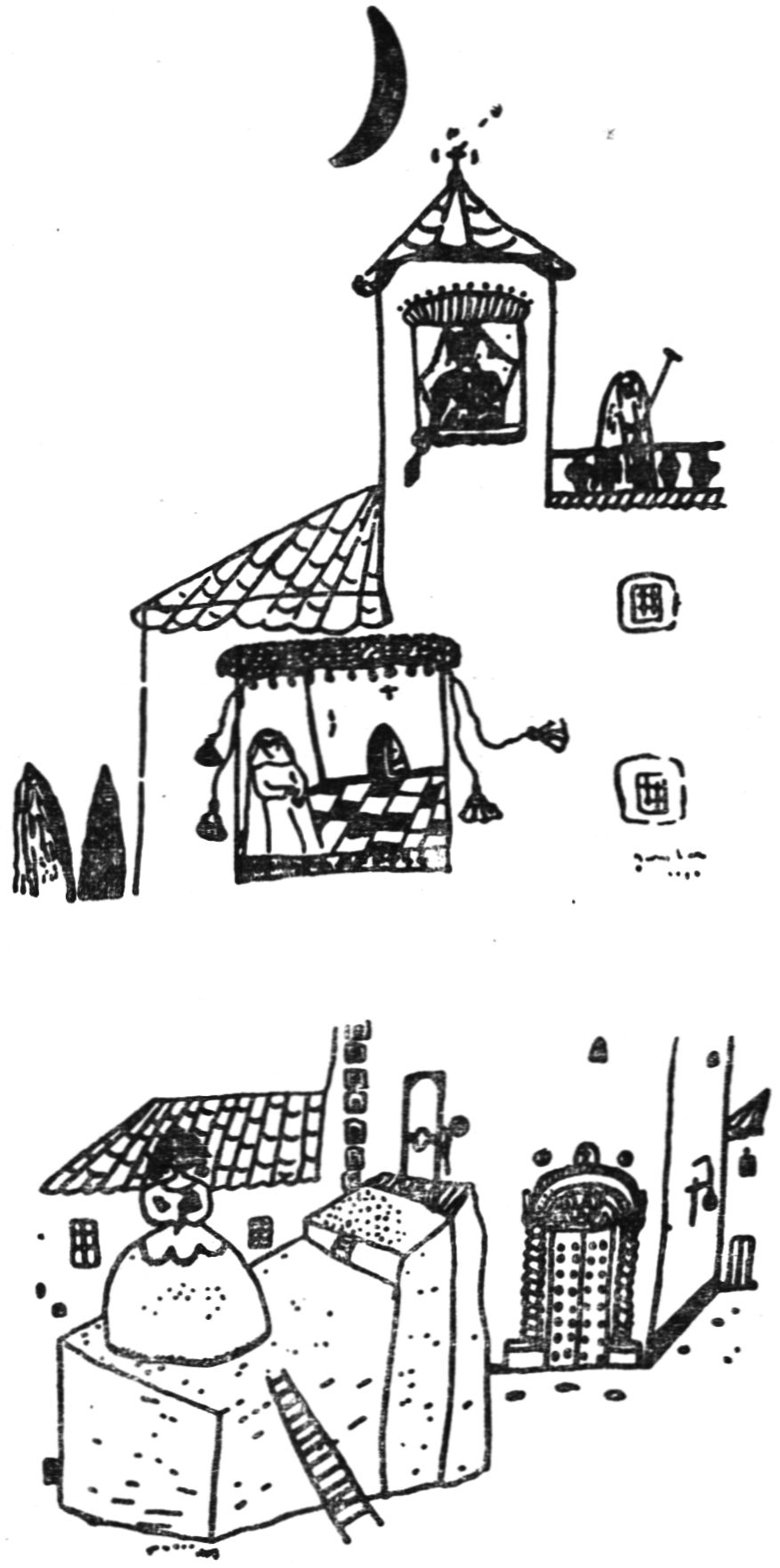
Федерико Гарсиа Лорка. Рисунка к к Мариане Пинеде»
Последний акт. Мариана в монастыре. Садовник Алегрито рассказывает ей, что дона Педро нет в Испании, — по слухам, он отплыл в Англию. Она не верит. Появляется Педроса, чтобы объявить ей смертный приговор. Еще не поздно вымолить помилование — пусть назовет лишь имена заговорщиков, ведь они же сами бросили ее в беде; в Гранаде не найдется никого, кто решится выглянуть в окно, когда ее поведут на казнь! Мариана непреклонна. Пусть все друзья оставили ее — есть один, кто примчится, чтобы спасти ее или умереть вместе с ней. Вот он идет... его шаги!.. Но нет, это только Фернандо, безответно влюбленный в Мариану. И его словам, отнимающим у нее последнюю надежду, Мариана вынуждена, наконец, поверить: дон Педро не придет.
И тогда отчаяние, дойдя до предела, обертывается решимостью. Педро любит Свободу сильнее, чем ее, свою Марианиту? Ну, так она и станет той самой Свободой, которой он поклоняется! Она умрет на эшафоте, но в памяти людей имя Марианы Пинеды навсегда сольется с именем Свободы.
Слезы мешают сеньоре Пиляр видеть, как сцена окрашивается в яркие, необычные цвета, свойственные гранадским сумеркам — розовый, зеленый, оранжевый, — как уходит на казнь Мариана под перезвон колоколов и хор детей вдалеке. Но слезы не приносят облегчения — переполняющие ее чувства так властно требуют чего-то иного, что она невольно привстает с места, оглядывается по сторонам... И в эту секунду откуда-то сзади раздается молодой, срывающийся голос:
— Да здравствует свобода! Да здравствует республика!
Вот оно! То самое! Грохот рукоплесканий показывает сеньоре Пиляр, что не одна она нуждалась в этих словах. Она не замечает, какими расширенными глазами глядит на нее сосед, положив себе руку на горло. Забыв обо всем, потрясая сжатыми кулаками, кричит она вместе с другими:
— Вива ла либертад! Вива ла република!
16
Думал ли когда-нибудь дон Луис де Гонгора-и-Арготе, великий поэт и великий путаник, скончавшийся в 1627 году, что через триста лет после его смерти и поэзия его и сам он еще раз станут полем битвы?
Все началось с того, что кто-то из молодых поэтов, собравшихся однажды вечером в мадридском кафе «Прадо», вспомнил о приближающемся юбилее. Кто-то заинтересовался: а будет ли эта годовщина торжественно отмечаться? Кто-то вызвался выяснить, каково на сей счет мнение официальных кругов.
Выяснилось, что мнение официальных кругов — отрицательное. Университетская наука не жаловала беспокойного классика, который дерзко нарушал языковые нормы, коверкал синтаксис, нагромождал необычные сочетания слов и выдумывал экстравагантные образы. Стихи его, туманные и загадочные, странным образом перекликались со многим из того, что возмущало почтенных профессоров в современной поэзии. Кроме того, Гонгора считался поэтом для избранного меньшинства, а нынче это отнюдь не поощрялось. Генерал, присвоивший себе право говорить от имени всей Испании, гордился своей простотой, речи его были доступны каждому, любимым словом было «народность». Ценя поэзию за возвышенность, благозвучие, красоту слога, он с подозрением относился ко всяким там иносказаниям и выкрутасам, за которыми наверняка скрывается разрушительный смысл.
Всего этого было достаточно, чтобы симпатией к Гонгоре воспылали и те молодые поэты, которые раньше с безразличием относились к его творчеству. Официального юбилея не будет? Тем лучше! Мы сами отпразднуем юбилей Гонгоры! Инициативная группа обратилась с письмом к виднейшим писателям, ученым, деятелям искусств, предлагая ознаменовать трехсотлетие со дня смерти поэта комментированным изданием его произведений и целой серией торжественных заседаний, лекций, концертов и выставок. Письмо подписали: Рафаэль Альберти, Херардо Диего, Педро Салинас, Хосе Бергамин, Федерико Гарсиа Лорка и некоторые другие.
Как и следовало ожидать, официозная критика в союзе с Королевской академией обрушилась на новоявленных «гонгористов». Неожиданным было другое: что идея торжеств в честь Гонгоры не вызвала никакого сочувствия и в уважаемых — без кавычек! — представителях старшего поколения. Многие из них вообще не откликнулись на письмо, а трое — Мигель де Унамуно, Рамон дель Валье-Инклан и Хуан Рамон Хименес — ответили отказом принять участие в юбилее.
Правда, язвительное послание Хуана Рамона свидетельствовало прежде всего о дурном характере его автора. Большой поэт и признанный учитель молодого поколения в последнее время все ревнивей относился к возрастающей самостоятельности своих учеников, к их стремлению ускользнуть из-под его деспотической опеки. Известие о том, что Федерико стал писать для театра, Хименес воспринял почти как личное оскорбление. «Бедный Лорка! — повторял он всем приходящим. — Теперь он погиб!»
Зато письмо Унамуно заслуживало внимания. Знаменитый изгнанник объяснял свой отказ решительным несогласием с эстетикой Гонгоры, ставя в особую вину автору «Поэм одиночества» недостаток человечности, холодную вычурность и ученый педантизм многих его стихов. Всего же сильней стоило бы, наверно, задуматься над последней частью письма, где, переходя от Гонгоры непосредственно к Примо де Ривере, «этому похотливому верблюду», Унамуно давал понять, что сегодня в Испании есть и более достойные объекты приложения молодых сил, чем проведение юбилеев.
Но они не задумались — напротив, всеобщее осуждение лишь раззадорило их. Довольно с них поучений! Окончательно закусив удила, молодые поэты поклялись не только осуществить собственными силами всю намеченную программу, но и дополнить ее некоторыми актами в стиле самых свирепых забав Резиденции. Так, например, устроено было публичное сожжение разнообразных памфлетов и пасквилей, сочиненных хулителями Гонгоры за три с половиной века. Критик Астрада Марин, ежедневно нападавший в газетах на организаторов юбилея, получил по почте подарок — венок, сплетенный из бурьяна, с приложением куплетов оскорбительного содержания. А как-то утром прохожие узрели на белоснежной стене здания Королевской академии лимонно-желтые разводы, вглядываясь в которые можно было прочесть имена нескольких академиков, известных враждебным отношением к чествуемому поэту.
За всем этим мальчишеством крылось и нечто иное, существенное. Так уж вышло, что юбилей Гонгоры оказался первым делом, которое сплотило их — испанских поэтов, выступивших в двадцатые годы, которое позволило им осознать какую-то свою общность, помогло им, попросту говоря, сдружиться.
Они сами затруднились бы сказать, что притягивало их друг к другу. Уроженцы различных областей Испании, они сильно разнились между собой по возрасту, да и в поэзии шли разными путями. Почти фольклорная простота первых сборников Рафаэля Альберти ничего общего не имела с прозрачностью годами шлифовавшихся строф Хорхе Гильена, раскованность свободно льющихся стихов Педро Салинаса не походила на дерзкое экспериментаторство Херардо Диего. Объединяли их не столько литературные вкусы, сколько общее отношение к жизни, общая, возраставшая неудовлетворенность.
Все они чувствовали, что в смятении, овладевавшем ими, повинно время, в которое им выпало жить, повинен режим, установленный в их стране болтливым и самовлюбленным генералом. Писатели старшего поколения, бросившие вызов диктатору, — Валье-Инклан, Антонио Мачадо, Унамуно — вызывали у них уважение, смешанное с завистью. Старики оказались моложе, чем они, старики сохранили веру в благотворность борьбы. А у них этой веры не было. Они верили только в искусство, которому самозабвенно служили, да еще в свой народ, который любили застенчивой, виноватой любовью.
Участие Федерико в проведении юбилея выразилось в том, что он подготовил и прочел лекцию «Поэтический образ у дона Луиса де Гонгоры» — сперва в Резиденции, а потом и в Гранаде. В родоначальнике «темного стиля» он увидел и показал поэта, во многом обязанного народу своей образотворческой смелостью. Он привел несколько примеров удивительной образности, изначально присущей народной речи. Скажем, называть выступающую часть крыши крылом или говорить, что «ивняк растет у реки на языке», — не превосходит ли это иные метафоры, смелости которых до сих пор не могут простить Гонгоре высокочтимые профессора? И не в обращении ли к истокам народной речи состоит один из важнейших уроков Гонгоры, воспринятый современной испанской поэзией?
Или другой урок: поэт должен не только быть знатоком пяти основных чувств — зрения, осязания, обоняния, слуха и вкуса, — но и открывать между ними связи. Ибо самые прекрасные образы часто рождаются от встречи различных чувств, когда разнородные впечатления как бы накладываются друг на друга, приобретая новые качества. «Немой полет рыбы» или «зеленые голоса» у Гонгоры — это предвосхищение новой выразительности, которая в наше время широко раздвинула поэтические горизонты.
А в заключение он рассказал о последних днях Гонгоры:
«Наступает год 1627-й. Гонгора, больной, весь в долгах, с израненной душой возвращается в свой старый дом в Кордове. Он возвращается один — без друзей и без покровителей. Его дом — это домище с двумя зарешеченными окнами и огромным флюгером на крыше, напротив монастыря Босоногих братьев.
Кордова, самый меланхолический город Андалусии, живет своей жизнью, в которой нет тайн. И у Гонгоры, приехавшего сюда, нет больше тайн. Он уже развалина. Его можно сравнить со старым, пересохшим источником. Со своего балкона поэт может видеть, как гарцуют смуглые всадники на длиннохвостых жеребцах, как цыганки, увешанные кораллами, спускаются стирать к полусонному Гвадалквивиру; он видит рыцарей, монахов и бедняков, вышедших прогуляться, пока солнце скрыто горами. И уж не знаю, по какой странной ассоциации мыслей, но кажется мне, что и три мориски из романса, Акса, Фатима и Марьен, легконогие, в выцветших платьях, проходят перед ним, ударяя в свои бубны... Что слышно в Мадриде? Ничего. Мадрид, легкомысленный и галантный, аплодирует комедиям Лопе и забавляется игрой в жмурки на Прадо. Но кто вспоминает о нем? Гонгора совершенно один... Где-нибудь в другом месте можно утешиться чем-то и в одиночестве, но что может быть более драматичным, чем остаться одиноким в Кордове!..
Утром 27 мая поэт то и дело спрашивает, который час. Он выглядывает в балконную дверь и ничего не видит, кроме огромного голубого пятна. Перекрестившись, дон Луис вытягивается на своем ложе, пахнущем айвой и сухими цветами апельсинового дерева... Когда старые друзья входят в дом, руки дона Луиса медленно холодеют — прекрасные, строгие руки без единого перстня, довольные тем, что создали несравненный, затейливо изукрашенный алтарь «Поэм одиночества». Друзья решают, что не должно плакать по такому человеку, как Гонгора, и философски садятся на балконе созерцать медлительную жизнь города».
Юбилейная кампания приближалась уже к завершению, когда вмешательство нового лица ее оживило. Лицом этим был знаменитый матадор Игнашо Санчес Мехиас, познакомившийся как-то с Рафаэлем Альберти, а через него и с другими молодыми поэтами. Знакомство быстро переросло в дружбу: поэтам льстило внимание человека, имя которого с восхищением повторяла вся страна, а дон Игнасио в их обществе отдыхал от привычной среды, от утомительных и навязчивых поклонников.
Он тянулся к ним еще по одной причине — литература была его давней, тайной страстью. Приближаясь к возрасту, критическому для матадора, Санчес Мехиас все чаще подумывал о том, чтобы оставить арену и отдаться своему второму призванию. Сидя в кругу новых друзей, слушая их стихи, ввязываясь в их споры, он чувствовал себя почти так же, как много лет назад, когда сам Хоселито посвящал его, сына севильского врача, в секреты тавромахии.
С энтузиазмом ринулся он в сражение, затеянное во славу Гонгоры молодыми поэтами, предоставив в их распоряжение свой кошелек, что оказалось весьма кстати, и свою энергию, настолько неуемную, что временами ее требовалось сдерживать. По противникам была произведена целая серия залпов — устных и печатных, — после чего те отступили, бормоча что-то о недопустимости внесения грубых нравов корриды в литературную полемику.
Федерико занимал этот человек, сдержанный и суровый на вид, похожий не на цыгана, как большинство уроженцев Севильи, а скорее на древнего римлянина. О своем прославленном искусстве он не любил распространяться, утверждая полушутя-полусерьезно, что все оно сводится к геометрии: бык движется по одной орбите, тореро по другой; на пересечении двух орбит лежит искомая точка, требуется найти ее — вот и все! По мере знакомства в нем обнаруживались неожиданно детские черты — безудержность в увлечениях, склонность к шумным забавам и неожиданным поступкам. Никогда нельзя было угадать, что он сделает в следующую минуту — потребует, чтобы все отправились с ним в собор на богослужение, или, вытащив из кармана трубочку, примется обстреливать горошинами людей за соседним столиком.
Он не только любил поэзию, но порою и сам мыслил истинно-поэтически — Федерико убедился в этом, спросив как-то дона Игнасио, не испытывает ли он чувства злобы, выходя на быка. «Злобы? — переспросил тот удивленно. — Нет! Скорее — жалости, ведь бык-то все равно обречен. Бой быков сходен с человеческой жизнью, только роль человека играет в нем бык, а судьба — это матадор. Впрочем, — добавил он, усмехаясь, — случается и быку выступить в роли судьбы».
Дон Игнасио тоже приглядывался к Федерико — внимательно и настороженно. Знакомясь с новыми людьми, он по профессиональной привычке мысленно помещал их в ту обстановку, в которой провел большую часть своей жизни, и они становились понятны. Понятен был Хорхе Гильен — зритель, тонкий знаток, но отнюдь не болельщик — афисионадо; такому никогда не придет в голову сумасшедшая мысль перескочить через барьер. Понятен был порывистый Рафаэль Альберти, готовый хоть сейчас пойти в ученики к дону Игнасио, вступить в его квадрилью. А вот гранадец ускользал от определения. Когда он дурачился, пел, изображал кого-нибудь, то казался беспечней всех остальных — ни дать ни взять мальчишка с картины Мурильо! И вдруг его лицо застывало, взгляд останавливался. Подобное выражение глаз Санчес Мехиас замечал у тех из своих коллег, которые начинали задумываться о смерти, а это не предвещало ничего хорошего. Иногда он даже подозревал в Федерико отвращение ко всякому насилию, что было бы совсем уж недостойно мужчины.
Тем не менее, организуя поездку молодых поэтов в Севилью — этой поездкой, по его плану, должны были триумфально закончиться торжества в честь Гонгоры, — дон Игнасио, не колеблясь, открыл список участников именем Федерико. В список вошли также Хорхе Гильен, Рафаэль Альберти, Херардо Диего, Хосе Бергамин, поэт и филолог Дамасо Алонсо и совсем еще неизвестный Хуан Чабас. Сообщил он им об этом, как всегда, неожиданно, но никто и не подумал отнекиваться — потому, что сопротивляться дону Игнасио было бесполезно, и потому также, что поездка с Санчесом Мехиасом к нему на родину (все расходы он, естественно, брал на себя) сулила немало приятного.
И все же они не предполагали, каким праздником станут дни, проведенные в Севилье. Едва ли сам дон Луис де Гонгора удостоился бы тех почестей, что были оказаны здесь им, как поэтам и как друзьям славного матадора. Не доискиваясь, которому из двух этих званий они более обязаны любовью севильцев, гости делили время между вечерами, где они прославляли Гонгору, поносили его хулителей, читали свои стихи, и бесчисленными пирушками, прогулками, развлечениями, занимавшими все остальные часы. Все двери распахивались перед ними, любые желания исполнялись, как в сказке. Кажется, попроси они на память Хиральду — гордость Севильи, башню, построенную еще маврами, стометровой иглой вонзающуюся в небо, — и ее бы им подарили!
Но изо всего, что было, друзьям особенно запомнилась одна ночь, когда, следуя в загородное поместье дона Игнасио, они переправлялись на пароме через Гвадалквивир. Река упрямым волом тянула паром в сторону моря, ветхий канат выгнулся дугой — вот-вот лопнет. Черное декабрьское небо вверху, черная, изредка взблескивающая вода внизу, и в темноте, обступившей их со всех сторон, молодые поэты с необыкновенной силой ощутили себя крохотной людской горсточкой, затерявшейся в неведомом пространстве. Только друг в друге чувствовали они опору, только тепло братской привязанности согревало их в эти минуты.
За все время существования севильского Атенея там не собиралось столь пестрой и разношерстной публики, какая переполнила зал на их заключительном вечере. Завсегдатаи коррид — афисионадо, исполнители канте хондо и просто цыгане из Трианы сидели вперемежку со студентами, адвокатами, учителями. В первом ряду торжественно восседали тореро с Игнасио Санчесом Мехиасом во главе. Поэтому ли, по какой ли другой причине, но с самого начала в зале царило то редкое, счастливое настроение, когда каждое слово, произнесенное со сцены, доходит до сердца слушателей. Тепло был принят толстенький Дамасо Алонсо, декламировавший наизусть сотни строк из «Поэм одиночества», десимы Хорхе Гильена привели аудиторию в энтузиазм, а когда Рафаэль Альберти выступил со стихами о бое быков, общее воодушевление, казалось, достигло предела. Тогда он прочел еще строфы, посвященные памяти Хоселито, и все увидели, как уронил голову Игнасио Санчес Мехиас, словно заново переживая смерть своего учителя, шурина, друга.
Дай, Хиральда, волю слезам,
мавританка, склонись величаво:
видишь, крылья раскрыла слава
и тореро несет к небесам.Огнекрасной корриды сын,
как рыдает твоя квадрилья,
как скорбит безутешно Севилья
в эти горестные часы!Омрачилась твоя река
и, зеленую косу откинув,
обрывает цветы апельсинов
и роняет на гладь песка.«Ты взмахни, тореро, рукой,
попрощайся с моими судами,
и с матросами, и с рыбаками:
без тебя мне не быть рекой».
Федерико выступает последним. Он читает романс о том, как схватили Антоньито эль Камборьо на севильской дороге:
Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо сын горделивый,
в Севилью смотреть корриду
шагает с веткою ивы.
Зеленой луны смуглее,
шагает, высок и тонок.
Блестят над глазами кольца
его кудрей вороненых.
Лимонов на полдороге
нарезал он близ канала
и долго бросал их в воду,
пока золотой не стала.
И там же, на полдороге,
в тени тополиных листьев
его повели жандармы,
скрутив за спиною кисти.Медленно день уходит
поступью матадора
и алым плащом заката
обводит море и горы
Тревожно следят оливы
вечерний путь Козерога,
а конный ветер несется
в туман свинцовых отрогов.
Антоньо Торрес Эредья,
Камборьо сын горделивый,
среди пяти треуголок
шагает без ветки ивы...
Как похожи сейчас друг на друга лица слушателей, лица товарищей Федерико, сидящих на сцене! Только дон Игнасио хмурится: романс превосходный, но опять это постоянное пристрастие к страдающим, униженным, беззащитным! Как будто нет уж людей, способных постоять за себя! И вдруг он вздрагивает — Федерико словно подслушал его мысли.
Антоньо! И это ты?
Да будь ты цыган на деле,
здесь пять бы ручьев багряных,
стекая с ножа, запели!
И ты еще сын Камборьо?
Сменили тебя в колыбели!
Один на один со смертью,
бывало, в горах сходились.
Да вывелись те цыгане!
И прахом ножи покрылись...
Да, он бы мог так сказать... Почему же теперь дону Игнасио кажется, что упрек обращен и к нему? К нему, прославленному матадору, более семисот раз бросавшему вызов смерти?! А все-таки этот окаянный гранадец заставил и его почувствовать себя заодно с несчастным цыганом. И для него последние строки романса звучат, будто погребальный звон по утраченной воле.
Открылся засов тюремный,
едва только девять било...
А пять полевых жандармов
вином подкрепили силы.Закрылся засов тюремный,
едва только девять било...
А небо в ночи сверкало,
как круп вороной кобылы!
Еще все вслушиваются в отзвук последнего слова, когда в первом ряду встает Игнасио Санчес Мехиас. Как заправский афисионадо, он срывает с себя галстук, воротничок, стаскивает пиджак и швыряет все это на сцену, под ноги Федерико. Так чествуют победившего матадора.
17
Слава обрушилась на Федерико.
Давно уж ни одна книга стихов не пользовалась в Испании таким решительным и повсеместным успехом, как «Цыганский романсеро», вышедший из печати в апреле 1928 года. Критики различных направлений с редкостным единодушием восхищаются этой книгой, заявляя, что ее автор — вслед за Антонио Мачадо, но на свой лад — возродил великую народную традицию испанской поэзии, оплодотворив ее достижениями новейших поэтических школ, что он открыл для читателей целую страну, о существовании которой те и не подозревали. На студенческих сходках читают «Романс о гражданской гвардии». Филологи принимаются за исследование поэтического языка Гарсиа Лорки, изучают особенности построения его образов, спорят о том, кто же он — неоромантик, традиционалист, популист, фольклорист? «Скорее уж — фолькЛОРКИСТ!» — каламбурит Гильермо де ла Торре.
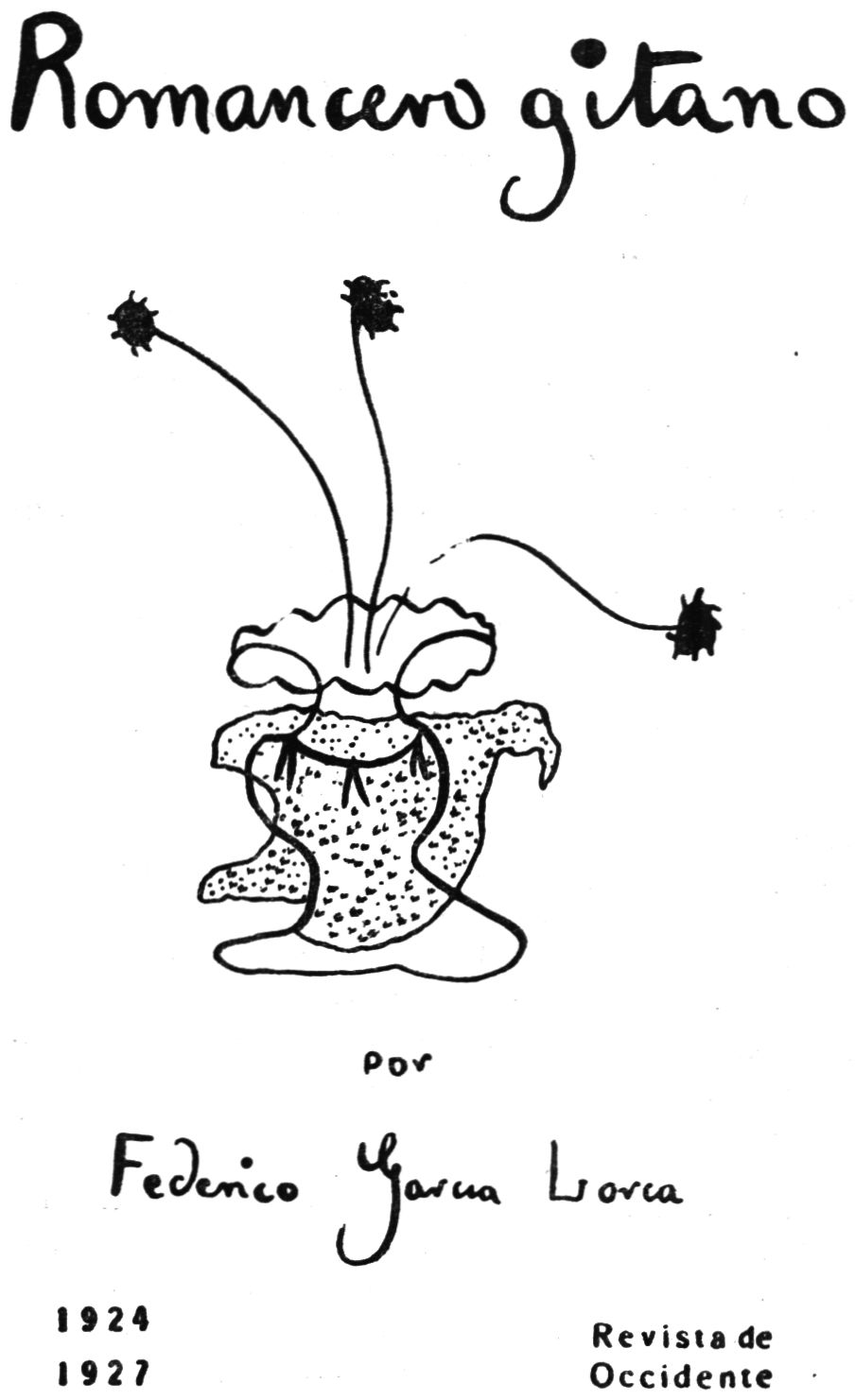
Обложка «Цыганского романсеро» работы Федерико Гарсиа Лорки
Но что поистине неслыханно, так это популярность, которую завоевывает «Цыганский романсеро» у самой широкой аудитории. Люди, обычно не читающие стихотворных сборников и не имеющие денег на их приобретение, в складчину покупают эту книжку, переписывают из нее наиболее понравившиеся романсы, заучивают наизусть. Антоньито Камборьо и Соледад Монтойя начинают соперничать с любимыми героями народных песен, а их создатель становится знаменит, как тореро. В театре, в кафе и просто на улице он постоянно чувствует на себе любопытные взгляды. Однажды на Пуэрта дель Соль чистильщик ботинок, подняв к нему лицо, расплывается в улыбке и спрашивает: «Дон Федерико, ну, как там у вас было дело с той неверной женой?»
Все это и радует Федерико и беспокоит. Да, его хвалят, но некоторым похвалам он предпочел бы брань. С возрастающей тревогой убеждается он, что до многих его почитателей доходит лишь внешняя сторона «Романсеро» — бубны и навахи, цыганские страсти, что под пером иных критиков открытая им страна превращается в ту самую, стилизованную и пошлую Андалусию для туристов, которую он с отрочества ненавидит.
Раздражают его и непременные спутники известности — слухи. Кто-то утверждает, что Гарсиа Лорка лишь собиратель подлинных цыганских романсов — он их записал, обработал, конечно, и выдает теперь за свое сочинение! Кто-то возражает: да нет, хорошо известно, что сам он цыган — вернее, цыгане украли его еще ребенком, он вырос среди них, бродяжил, разбойничал, но потом раскаялся, вернулся к добродетельной жизни и написал этот свой «Романсеро».
Приятели хохочут, а Федерико не смешно. Все сильнее охватывает его странное чувств» — как будто с опубликованием «Песен» и особенно «Романсеро» он лишился какой-то важной части своего существа. Большой кусок его жизни отныне ему не принадлежал, разошелся по рукам; всякий мог теперь распоряжаться теми словами, из которых каждое было частицей его «я». Позволив разлучить себя со своими стихами, он словно отказался от собственной личности.
Не того же ли опасался он перед выходом первого сборника семь лет назад? Впрочем, в ту пору опасения не сбылись — Федерико и не вспомнил о них, с головой уйдя в работу над стихами, о канте хондо. Целый пласт жизни отвалился тогда незаметно и безболезненно, потому что новый вырос ему на смену. Так не в том ли теперешняя беда Федерико, что он расстался со своим трудом в такое время, когда прежние источники иссякли, а новых нет?
Он едет в Гранаду, бродит по улицам, где каждый камень знаком, разгуливает по Веге, уходит в горы на целые дни. Кругом все такое же, как и прежде, да и сам он тот же, а что-то непоправимо переменилось. Невидимая стена стоит между Федерико и его Андалусией, она глушит голоса, убивает краски, сквозь нее не просачивается музыка.
Но может быть, так и надо? Порвана пуповина, ученичество кончилось, он должен надеяться на одного себя. Отказаться от помощи традиции, дать волю своей фантазии, полностью освободив ее от контроля логики, — не к этому ли звали его и Дали и барселонские друзья-авангардисты?
Никогда еще Федерико не работал так интенсивно — и в то же время так лихорадочно, судорожно, отчаянно, — как в этом году. Он пишет стихи в новой манере, близкой к сюрреалистической, сочиняет рассказы и сценки, еще более алогичные, чем «Прогулка Вестера Китона», пытается снова устроить выставку своих рисунков, выступает с лекцией «Воображение, вдохновение, бегство», заканчивая ее словами о том, что высшая ступень поэтического творчества — это бегство от действительности, разрыв всех связей с нею. Вместе с братом Франсиско и целой компанией юных гранадцев — начинающих поэтов, писателей, художников он затевает издание литературно-художественного журнала «Гальо» — «Петух», которому предстоит пробудить Гранаду от ее векового сна и поднять в Андалусии знамя авангардистского искусства.
Первый номер журнала — Федерико открывает его шуточной сказкой «История этого петуха» — расхватан за два дня. Студенты Гранадского университета разделяются на две партии — гальистов и антигальистов; дискуссия заканчивается потасовкой. Ободренные издатели устраивают банкет и приступают к подготовке второго номера, гвоздем которого является «Каталонский антихудожественный манифест», составленный в самых эпатирующих выражениях и подписанный Сальвадором Дали и Себастианом Гашем. Однако на этот раз «Петух» не имеет успеха — скандал улегся, студенты отвлечены политикой, что же до почтенных землевладельцев и коммерсантов, то они, по-видимому, и не расслышали вызывающего «кукареку!». Журнал прекращает свое существование.
Писать для театра? Но трагедия об Ифигении не продвигается, античному сюжету чего-то недостает, чтобы ожить заново. Совсем другой сюжет брезжит в воображении Федерико. Лет двадцать тому назад забрел в Аскеросу старик с алелуйями — лубочными картинками; водя палочкой по картинкам, он рассказывал собравшимся про Фьерабраса из Александрии, про горестную жизнь дона Дьего Корриентеса, про похождения отважного Франсиско Эстевана. От одного героя в памяти Федерико осталось только имя — дон Перлимплин, но и этого имени, шутовского и в то же время грустного, оказывается теперь достаточным, чтобы разбудить фантазию. Дон Перлимплин был, конечно, смешным пожилым уродцем, однако с детской душой и сердцем поэта. Предположим, что такой человек захочет жениться на юной красавице — бессердечной, белолицей Белисе... Что из этого выйдет?
Сальвадор увидел бы здесь, пожалуй, превосходный материал для очередной абсурдной пьесы, однако на сей раз Федерико не испытывает ни малейшего желания нагромождать бессмыслицу. Самые парадоксальные ситуации, естественно, вытекают из характера главного героя, ухитрившегося превратить водевиль в высокую трагедию. Выясняется, между прочим, что дон Перлимплин с детских лет боялся моря... да и другие, хорошо знакомые черты неожиданно проглядывают в неловком старом мечтателе. Быть может, и в историю самоотверженной любви дона Перлимплина Федерико вкладывает что-то личное, выстраданное?
Никому не известно, что произошло этим летом в Гранаде. Ни с одним из друзей Федерико не поделился своей болью. Ее след промелькнул только в письмах Федерико молодому колумбийскому поэту Хорхе Саламеа, с которым он незадолго перед тем познакомился в Мадриде.
«Будь радостным! — пишет он колумбийцу. — Во что бы то |Ти стало нужно быть радостным. Это говорю тебе я, переживающий одну из самых печальных и горьких минут моей жизни».
И в другом письме:
«Я только что выбрался усилием воли из такого мучительного состояния, каких в моей жизни было немного. Ты не можешь себе представить, что значит проводить целые ночи на балконе, глядя на ночную Гранаду, опустевшую для меня, и не находя ни в чем ни малейшего утешения».
Что ж, однако, друзья? Он ли от них отдалился, они ли от него, только связь между ними слабеет, возникшее было братство оказалось непрочным. Созерцательная мудрость Гильена не успокаивает более Федерико, а с Альберти творится, по-видимому, то же, что и с ним, — Рафаэль ни с кем не видится, стихи его, изредка появляющиеся в журналах, становятся все трагичнее и запутаннее. Непонятнее всех ведет себя Сальвадор Дали — уехав в Париж, он словно забыл о существовании Федерико.
Уже в начале 1929 года из Парижа приезжает ненадолго Луис Бунюэль, чтобы показать мадридцам поставленный им совместно с Сальвадором Дали фильм «Андалусский пес». Собравшиеся на просмотр — кто с возмущением, кто с недоумением, кто с восторгом — глядят на экран, где луна, рассеченная облаком надвое, превращается в человеческий глаз, перерезаемый бритвенным лезвием. Какой-то зритель, не выдержав, требует объяснить, что все это значит, и тогда из ложи, где сидит Бунюэль, раздается спокойный голос: «Это просто-напросто отчаянный, неистовый призыв к преступлению».
Федерико вздрагивает. Преступление, насилие, расправа — со всех сторон только и слышишь эти слова, ими, кажется, напоен самый воздух Испании. Как зарвавшийся игрок, не желающий признать, что проиграл партию, Примо де Ривера пытается любыми мерами спасти свое положение. Массовыми арестами отвечает он на январское антидиктаторское выступление армии, в котором приняли участие и гражданские деятели. В феврале издается указ о строжайшей ответственности «за разговоры, дискредитирующие правительство». В марте, после того как столица на целый день оказалась во власти бастующих студентов, диктатор отдает распоряжение о закрытии Мадридского университета. Атмосфера сгустилась до предела — то ли это духота перед грозой, то ли последнее, предсмертное удушье...
Знакомые дивятся: что с Федерико? Или это слава так странно подействовала на него? Былой весельчак и всеобщий любимец не появляется больше в Резиденции, не музицирует, как бывало, не читает стихов, не делится ни с кем своими планами. Он — он, Федерико! — избегает всякого общества и, говорят, целыми днями в одиночестве бродит по улицам...
Повстречав его как-то весной, Фернандо де лос Риос убеждается в справедливости этих слухов. Вид у Федерико такой потерянный, что дон Фернандо позабывает о собственных огорчениях, а они велики — вместе с другими либеральными профессорами де лос Риос изгнан из университета, лишен возможности печататься. Когда б не приглашение прочесть курс лекций в Соединенных Штатах Америки, он остался бы попросту без средств к существованию!
И вдруг его осеняет. А что, если и Федерико поехать с ним? Колумбийский университет в Нью-Йорке предоставляет стипендию испанцам, желающим изучить язык и литературу Америки, — устроить ему такую стипендию дон Фернандо при его связях может без всякого труда. Увидеть новый мир, переменить обстановку...
Федерико бледнеет. Уехать из Испании? Это невозможно.
...А почему, собственно говоря, невозможно? Ведь не насовсем же! «На год, не более!» — подхватывает дон Фернандо. Быть может, именно это и нужно ему сейчас — круто переменить жизнь, взглянуть как бы со стороны на свою родину, на самого себя? И отец, пожалуй, будет доволен — сын поедет готовиться в профессора. Решено, он согласен!
Станет ли ему лучше там, в незнакомом мире? Едва ли! Ну и пусть. Пусть даже хуже, только бы — иначе!
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |
