Глава третья
| О где-то затерянное селенье
в моей Андалусии слезной... Федерико Гарсиа Лорка |
1
Хотя Пепе Мора всего за несколько месяцев до Федерико перебрался в Мадрид, он приветствует друга со снисходительностью, достойной столичного старожила. Ну кто же, мой милый, носит теперь такие торжественные черные костюмы? Разве что на похоронах! И эти лакированные туфли! А чемоданы небось набиты крахмальными манишками и рекомендательными письмами?
Федерико не смущается: что ж, провинциал так провинциал. Зато каким франтом стал наш Пепе, сил нет, вот бы подивились на него гранадские родственники! Ах, чуть было не забыл, от родственников — куча поручений! Кузина Ангустиас просила крепко поцеловать милого жениха и напомнить ему про клятвы в апельсиновом саду — и, не выпуская из рук чемоданов, он заключает в объятия оторопевшего Пепе. Дядя Педро наказал передать, чтобы Пепе перестал, наконец, шляться по дурным женщинам. Тетушка Кристина посылает племянничку собственноручно связанный набрюшник — говорят, что вечера в Мадриде холодные, а ведь у Пепе такой слабенький желудочек! А бабушка Мария Хосефа...
Пронзительный голос Федерико разносится по всей привокзальной площади. Пене находит, что шутка несколько затянулась, но тот не унимается — он шарахается от автомобилей и трамваев, поминутно хватается за карманы и сыплет уменьшительными андалусскими словечками, будто не замечая зевак, наслаждающихся даровым представлением.
Наконец приятели усаживаются в открытую пролетку — Пепе все-таки не упускает случая сообщить, что такие пролетки в Мадриде называют мануэлами в отличие от зимних экипажей — Симонов, — и словоохотливый извозчик моментально вступает в разговор.
— Хорошо вам, южанам, въезжаете в столицу через парадный вход. А высадились бы на Северном вокзале — и тащились бы сейчас в гору по булыжной мостовой под тусклыми газовыми фонарями!
Пролетка выезжает на Пасео дель Прадо. В черной асфальтовой реке колышутся отражения электрических светильников, по сторонам, в каштановых аллеях, сплошными толпами движутся гуляющие. Справа дышит свежестью какой-то сад — ага, ботанический, — слева, за деревьями, тянутся дома, один нарядней другого. А вот и справа большое, знакомое по открыткам здание с колоннами перед входом — музей Прадо. Фонтан со статуей Нептуна... Огромный — в целый квартал длиной — Дворец путей сообщения...
Дома и статуи кажутся знакомыми, а вот люди... Где же сотни раз воспетые и нарисованные столичные манолы, почему не прохаживаются они неторопливо, накинув мантильи, шурша накрахмаленными юбками? Где классические щеголи в гетрах, повязывающие шею шелковым платком? Откуда взялись эти вызывающе декольтированные женщины в платьях до колен, эти деловитые молодчики в непромокаемых плащах нараспашку? И куда, скажите на милость, так торопятся все эти люди, почему так судорожны их движения, словно они стараются попасть в такт нервической, квакающей музыке, несущейся из окон отелей и ресторанов?
Пепе усмехается:
— Я же тебе говорю, что Мадрид давно не тот, каким мы его представляли себе. За Пиренеями можно было отсидеться от войны, но не от послевоенного нашествия иностранных товаров и иностранных мод. Вместо польки танцуют фокстрот, а там, где раньше попивали вальдепеньяс или чинчон, теперь тянут коктейль и виски.
— А футбол, ради которого мадридцы изменяют даже корриде? — вставляет извозчик. — А пять тысяч автомобилей, отравляющих воздух своим перегаром и оглушающих нас своими клаксонами?
— Европеизируемся, — вздыхает друг, — ничего не поделаешь!
Чтобы попасть в Студенческую резиденцию, нужно ехать прямо, но время позднее, лучше переночевать в пансионе, где живет Пепе, — кстати, это в самом центре города. Пролетка огибает бронзовую богиню, восседающую на колеснице, влекомой двумя львами, и по ярко освещенной шумной улице Алькала направляется к площади Пуэрта дель Соль.
Прославленная площадь, «сердце Мадрида», оказывается неожиданно маленькой, окруженной высокими домами с рекламными надписями на фасадах. Кафе, находящиеся в нижних этажах, выставили столики наружу, гуляющие оттеснены с тротуаров и заполняют все остальное пространство, в центре которого возвышается киоск со стеклянными козырьками — станция подземной дороги. Разноголосый гул, выкрики разносчиков, отчаянный трезвон трамваев и нетерпеливые автомобильные гудки... Федерико даже за уши хватается, а Пепе подмигивает: «Это тебе не Гранада».
Пока извозчик, размахивая кнутом и крича во все горло, прокладывает дорогу через толпу, их атакуют со всех сторон: «Гвоздичку в петличку, фиалки для вашей сеньориты — не купите ли цветочков, всего один реал!», «Посмотрите-ка на этот лотерейный билет, его номер оканчивается на цифру «тринадцать», это счастливый номер!», «А вот «Ля Вос», вечерний выпуск! Экстренное сообщение: вооруженные силы юга России, развивая наступление на большевиков, заняли город Эль Курско и продвигаются к Москве!», «Позвольте, сеньоры, почистить, как зеркало блестеть будут!»
Но вот и пансион. Не успевает Пепе нажать кнопку звонка, как двери сами распахиваются и выпорхнувшее из них ослепительное черноглазое виденье, несмотря на свою воздушность, едва не сбивает Федерико с ног. Он бормочет извинения, девушка, заливаясь смехом, по-приятельски здоровается с Пепе. Тот знакомит:
— Это Энкарнасьон Лопес, по прозвищу Аргентинита, она делает лишь первые шаги в балете, но в самом ближайшем будущем прогремит на всю Испанию, а это Федерико, мой друг из Гранады, приехавший, чтобы завоевать Мадрид.
— Уж не вы ли тот самый поэт, стихи которого нам постоянно читает Пепе? — И, по-видимому, сочтя достаточным подтверждением укоризненный взгляд, который Федерико бросает на друга, она произносит нараспев, довольно похоже передразнивая Пепе:
Над прохладным ручьем сердце мое отдыхало.
Ты затки воду тенью,
паук забвенья!
Опрокинувшись, сердце в свежий родник упало.
Руки, что белеют далеко,
удержите воду потока!
Ну конечно, стихотворение бессовестно переврано — пропущена вся середина, а все же приятно, черт возьми, услышать свои стихи в чужих устах, да еще в таких устах — пунцовых, смеющихся! Хорошо бы продолжить разговор, но Энкарнасьон спешит, ее ждут друзья, и, дробно процокотав каблучками, она исчезает за углом (одна! в такой поздний час!.. да, это и впрямь не Гранада!).
Комната Пепе очень уютна, но сам он чем-то смущен, украдкой поглядывает на часы. Федерико, конечно, устал с дороги, ему нужно как следует отдохнуть... Он не очень обидится, если оставить его одного? Дело в том, что у Пепе тоже назначена встреча...
Великодушно выпроводив друга, Федерико долго не раздумывает — ночной Мадрид выманивает и его наружу. Народу на улицах стало еще больше, можно подумать, что здесь никто вообще не ложится спать. Толпа, плывущая мимо ярко освещенных витрин, кажется не такой уж чужой, когда с ней смешаешься. Трещит словесная перестрелка: мужчины не пропускают ни одной красотки без комплимента; обмен любезностями принимает моментами довольно рискованный характер, но это не смущает никого, даже духовных лиц, то и дело попадающихся навстречу.
Пройдя несколько улиц, Федерико присаживается к столику на одной из террас. Вокруг рассуждают о политике, о бое быков, об итальянской опере, бьют с размаху костяшками домино по мраморным доскам, звенят ложечками о фарфор и хлопают в ладоши, подзывая официанта. А из глубины кафе женский голос зовет не дозовется какого-то Федерико. Как ни странно, голос этот кажется ему знакомым, и все же он не догадывается обернуться до тех пор, пока его не трогает за плечо Энкарнасьон, Аргентинита, которая — что ж тут удивительного? — сидит как раз в этом кафе со своими друзьями-артистами.
После того как произнесены все слова о том, насколько тесен мир и столица в частности, после того как Аргентинита высказала все, что она думает о человеке, покинувшем друга в первый же вечер («и, главное, ради кого?! Ради Исабелиты, этой смазливой вдовушки!»), после того как Федерико представлен ее друзьям и усажен за их стол, — прервавшийся было за этим столом спор возобновляется. Речь идет о недавней театральной сенсации — «Кармен», поставленной на «Пласа де Торос», прямо на арене для боя быков. В четвертом акте оркестр и певцы уступили место самой настоящей квадрилье, Марсело Леон убил своего быка, а потом опера продолжалась. Некоторые находят все это новаторским зрелищем, другие же до глубины души возмущены таким, как они восклицают, профанированием сразу двух великих искусств.
Последним высказывается дон Грегорио — чахоточного вида мужчина лет сорока, с большими усами, орлиным носом и лихорадочно блестящими глазами. Говорит он негромко, но страстно, и по тому, как его слушают, легко понять, что в этой компании он старший не только по возрасту.
Дон Грегорио считает, что балаган, устроенный на «Пласа де Торос», не имеет ничего общего с настоящим искусством. Но дело даже не в этой постановке, она лишь один из симптомов общей болезни: зрителя стараются любой ценой привлечь в театр, а он все упорнее сопротивляется. Почему? Да потому, друзья мои, что театр наш давно перестал быть чудом и сказкой, что в драме господствует штамп, а комедия задушена бытом. Есть у нас и прекрасные актеры и талантливые режиссеры, нет одного, самого главного — пьес. Ну, конечно, я так и знал, что вы закричите: а Хасинто Бенавенте? а братья Кинтеро? Давайте говорить честно, дон Хасинто — великий мастер, но ведь он уже лет десять, как повторяет самого себя. Да и братья Кинтеро... вы не думайте, я очень люблю их комедии из андалусского быта, и все же сегодня эти комедии не удовлетворяют мало-мальски искушенного зрителя — слишком они поверхностны и примитивны. А кто кроме них? Арничес, ударившийся в глубокомысленную трагикомедию? Или Муньос Сека с его пошлыми фарсами, стоящими уже за гранью литературы? И это в то время, когда в Англии — Шоу, в Бельгии — Метерлинк, в Италии — Пиранделло!
— А у нас Грегорио Мартинес Сьерра! — не очень уверенным голосом возражает кто-то из компании. Он не находит поддержки у остальных, а дон Грегорио, досадливо морщась, отмахивается, как от слишком уж явной лести: ну, какой он драматург, да особенно теперь, когда труппа все время отнимает...
Ах, так вот он кто!.. Федерико читал рассказы Мартинеса Сьерры, слыхал о его пьесах, а в последнее время это имя стало мелькать в театральной хронике под такими примерно заголовками: «Став директором театра «Эслава», Мартинес Сьерра пытается воспитывать вкусы мадридской публики», «Шекспир и Ибсен на сцене «Эслава».
— Нет, друзья мои, — продолжает дон Грегорио, воодушевляясь, — испанский театр нуждается в новых авторах, которые вольют молодую кровь в его старческие жилы. И знаете, что они должны будут сделать прежде всего? Возвратить на подмостки театральность в самом высоком значении этого слова, театральность Лопе и Кальдерона! Восстановить в правах сценическую иллюзию! Не принижать театр до жизни! А если выразить все это одним словом, то я сказал бы так: испанский театр должен снова стать поэтическим. Нет, не в том смысле, в котором употребляет это выражение мой друг Эдуардо Маркина. Для него «поэтический» — синоним слова «стихотворный», да и темы для своих пьес он ищет в истории, в романсеро, а мне мерещится нечто другое, нечто, — он щелкает пальцами, — извлеченное из обычной жизни, эдакая поэтическая суть простых вещей...
Разговор продолжается, но Федерико не слышит больше. Слова дона Грегорио расшевелили в нем какие-то собственные мысли, он пытается поймать их, а они ускользают... и тут он замечает, что директор театра «Эслава» внимательно разглядывает его своими блестящими глазами. Так и есть: Энкарнасьон, подсев к дону Грегорио, о чем-то тихо говорит ему — ясно, о чем. Сейчас, чего доброго, попросят стихи почитать. Федерико даже съеживается, но в это время компания, слава богу, с шумом поднимается с мест. Им с Энкарнасьон по дороге. Оказывается, и дону Грегорио по пути с ними?..
У дверей пансиона Федерико огорошен предложением дона Грегорио: не хочет ли наш юный друг еще немного прогуляться — разумеется, если общество такого старика, как он, ну, и так далее... Отказаться невозможно. Аргентинита скрывается, соблазнительно позевывая, а Федерико, подавив вздох, продолжает прогулку, которая, кажется, из ночной превращается в утреннюю. Впрочем, довольно скоро досада его улетучивается — дон Грегорио, надо отдать ему должное, знает, что показать человеку в Мадриде.
Он ведет Федерико на Пласа Майор, старинную площадь, замкнутую в прямоугольник зданиями XVII века. С этих вот зарешеченных балконов дамы в фижмах глядели на бой быков, а то и на аутодафе. Там — дворец, в котором томился Франциск, король французский, пленник императора Карла... Стертые шагами каменные плиты — чьи только ноги не ступали по ним! А в этом дворе вполне могли давать театральные представления — посмотрите: у дальней стены ставились подмостки, на галереях, идущих вдоль каждого этажа, размещалась публика, только ту часть галереи, которая находилась над сценой, зрители не занимали. Она заменяла декорации, и, когда нужно было изобразить башню, гору, балкон, артисты просто влезали туда по лестнице...
Небо над парком Ретиро светлеет, но дон Грегорио неутомим. Нельзя же не показать гостю «нижние кварталы» — и они идут по узким улочкам, мимо дряхлых домов, в которых ютится столичная беднота. Прохожие здесь выглядят иначе, чем в центре, — женщины закутаны в шали, на кавалерах шляпы, нахлобученные до бровей, и традиционные шейные платки. Нет, не весь Мадрид изменил прежним вкусам! — издалека доносится сиплый голос шарманки, вон на углу слепой старик, подыгрывая себе на скрипке, тянет романс про Диего Монтеса, славного разбойника, а девчонка-поводырь протягивает желающим листочки со словами песни.
Не устал ли Федерико? Пожалуй, сейчас самое время выпить кофе у Манко! И вот они сидят в крохотной грязной кофейне, где хозяин, смахивающий на отставного бандита, сам рассчитывается с посетителями, единственной рукой ловко сгребая монеты в кожаный кошель, подвешенный к поясу, а за соседним столиком подозрительные субъекты разговаривают на непонятном жаргоне. А известно ли молодому гранадцу, что самые знаменитые писатели наведываются сюда, к Манко, — поискать персонажей, подслушать меткие словечки?..
Молодой гранадец переполнен впечатлениями — и всем этим он обязан дону Грегорио! Благодарность рождает доверие. Теперь директору театра «Эслава» остается только выказать сердечный интерес к Гранаде — и замкнутость Федерико побеждена. Он охотно отвечает на вопросы — сначала об университете, об общих знакомых (ну кто же в Мадриде не слыхал о сеньоре де лос Риосе, на таких, как он, политических деятелей вся наша надежда!), а там и о себе самом.
На обратном пути доходит очередь и до стихов. Рассвело. Они сидят на бульварной скамейке, совсем одни в огромном, ненадолго угомонившемся городе. Федерико окончательно покорен тем, как слушает его дон Грегорио — не пускаясь в рассуждения, не восторгаясь, не гурманствуя, а попросту отдаваясь музыке стиха с отсутствующим, даже поглупевшим, лицом. Лишь когда Федерико окончательно умолкает и поднимается со скамейки, его собеседник, встряхнув головой и откашлявшись, просит еще раз прочесть сказку про бабочку, сломавшую крылья.
Как раз этим стихотворением Федерико не особенно доволен, но он исполняет просьбу. Бабочка, повредившая себе крылья, упала в гнездо к полевым тараканам. Они спасли ее, вылечили, а младший из тараканов влюбился в чудесную гостью. Как только бабочка смогла вновь летать, она взвилась в небо, а таракан остался на земле с разбитым сердцем. Вот и все, и никаких аллегорий, и насекомые были самые настоящие, из детства.
Теперь дон Грегорио слушает по-другому — он теребит усы, устремив взгляд в одну точку. Едва дослушав, он вскакивает, кладет обе руки на плечи Федерико и впивается в него глазами. Понимает ли Федерико, что в стихотворении, которое он только что прочел, уже заключена — как та бабочка в куколке! — целая пьеса? Отдает ли он себе отчет в том, что, быть может, это именно та поэтическая пьеса, которую ждет испанский театр?!
В первый момент Федерико ничего не понимает, в следующий — принимает все это за шутку, а поняв, наконец, чего хочет от него дон Грегорио, приходит в ужас. Здесь какое-то недоразумение! Он никогда не сочинял для театра, даже не помышлял об этом, сказка о бабочке — безделица, недостойная того, чтобы превращать ее в пьесу, да и что тут превращать! Дон Грегорио, безусловно, слишком добр к нему и несколько увлекся...
Но дон Грегорио и слышать не хочет никаких возражений. Он не первый год работает в театре и, слава богу, кое-что смыслит в драматургии. Если он говорит, что Федерико может развить это стихотворение в прекрасную комедию — романтическую, лирическую, в духе ростановского «Шантеклера» — значит, так оно и есть. А раз Федерико может — значит, он обязан это сделать!
Нет никакой интриги? То есть как это нет? У вашего юного таракана обязательно должны быть соперники. С другой стороны, у него, конечно, есть невеста, которую он покидает из-за бабочки... А представьте себе еще, что невесту ему подыскала мать, готовая теперь на все, чтобы образумить сына!
Федерико продолжает отбиваться, а дон Грегорио ведет себя так, словно пьеса уже у него в портфеле, — раскрыв записную книжку, он прикидывает сроки, намечает исполнителей.
— Знаете, кто будет играть бабочку? Аргентинита! Эта роль прямо создана для балерины! Сеньора Барсена превосходно сыграет мать... Декорации закажем уругвайцу Баррадасу — художник он увлекающийся, но даровитый. Начнем репетировать, как только сдадите первый акт, и тогда успеем, пожалуй, будущей весной выпустить премьеру. Весь Мадрид повалит на вашу пьесу!
Пустынные улицы, гипнотический взгляд дона Грегорио и его сумасшедшая деловитость — все это похоже на сон, и чувство головокружительной легкости вдруг охватывает Федерико. А может, именно так и надо?..
Пепе Мора набрасывается на друга с упреками — он глаз не сомкнул, он собирался уже заявлять в полицию...
— Хорош провинциал! С кем это ты прошатался целую ночь?
— С доном Грегорио, — отвечает Федерико, укладываясь; он так устал, что еле ворочает языком, — с директором театра «Эслава»...
— С сеньором Мартинесом Сьеррой? А что тебе от него понадобилось?
— Не мне от него, а ему от меня, — Федерико продолжительно зевает, — он, видишь ли, ставит мою комедию. Через месяц — начало репетиций... И куда такая спешка, не понимаю!..
Кажется, Пепе замолчал? Ну то-то! С наслаждением вытягиваясь на постели, Федерико бормочет:
— Не забудь привести на премьеру Исабелиту...
И мгновенно засыпает.
2
Альберто Хименес, директор Студенческой резиденции, любит подниматься рано, чтобы обойти свое беспокойное хозяйство, пока все еще спят. В такие минуты он сам себе напоминает сурового отца, дающего волю родительским чувствам лишь тогда, когда дети не видят. Если бы кто-нибудь из этих лежебок вышел и столкнулся с доном Альберто, неспешно идущим по дорожке, то, пожалуй, не узнал бы своего энергичного и жестковатого шефа: по лицу блуждает задумчивая улыбка, взгляд ласков и рассеян.
Отсюда, с вершины холма, — однофамилец и друг дона Альберто, поэт Хуан Рамон, окрестил его Тополиным холмом — весь Мадрид как на ладони. Обернешься на север — там горы Гвадаррамы. В прозрачном осеннем воздухе они вырисовываются так четко, что хочется рукой достать. Стройные деревья уходят ввысь словно мачты, над крышами полощутся бурые, рыжие, золотые паруса листвы, и кажется, что вся Резиденция медленно плывет куда-то, как та галера, о которой поется в старинном романсе:
...на ней якоря золотые, а парус — из тонкого льна,
ею моряк управляет, песня его такова:
— Галера, моя галера, храни тебя бог ото зла,
отврати опасности мира, и морской ураган,
и заливы Леона, и пролив Гибралтар,
и шхуны мавров-пиратов, что любят на нас нападать.
Что ж, и в самом деле, это его корабль, вышедший в плаванье десять лет назад, когда руководители движения за университетскую реформу вызвали из Малаги молодого издателя и журналиста Альберто Хименеса. Надежд на реформу не осталось, решено было искать обходных путей, и тогда возник план — организовать по примеру Свободного института образования нечто вроде независимого университета, разумеется не называя его этим именем, чтобы не привлекать преждевременно внимания властей. Правительство спохватиться не успеет, как рядом с государственным университетом возникнет наш, вольный. Постепенно он перетянет на свою сторону общественное мнение, а тогда... Всем известен интерес сеньора Хименеса к проблемам образования, богатый опыт, который он приобрел, изучая постановку дела в английских университетах, — не согласится ли он возглавить это начинание?
Согласится ли он? Предложение отвечало самым сокровенным его мечтам — не о карьере, но о будущем Испании. Уже давно пришел он к выводу: корень всех бедствий великого испанского народа заключается в невежестве и эгоизме тех, кто им управляет. Воспитать поколение просвещенных и гуманных людей, любящих свою родину и способных сменить нынешних ее правителей, — такому делу стоило посвятить жизнь!
У других были путешествия, наука, политическая деятельность. У него только Студенческая резиденция, как решили в конце концов ее наименовать, или попросту Рези, как стали ее называть питомцы. Вначале их было всего пятнадцать, и в крохотной гостинице на улице Фортуни удалось разместить лишь спальни, столовую, библиотеку да первую из лабораторий...
А сколько было волнений, когда король Альфонс, прослышав о Резиденции, изъявил вдруг желание ее посетить! Некоторые считали, что Хименес обязан решительно воспротивиться этому, — ведь поступил же так основатель Свободного института образования Франсиско Хинер, заявивший во всеуслышание: «В нашем доме имеются две двери, и как только его величество окажет нам честь войти через одну из них, я выйду через другую».
Нет, он не мог поставить под удар едва начатое дело. Король был встречен с подобающим почетом, держался он сперва настороженно, но, выслушав разъяснения, отнесся милостиво. Деятельность Резиденции стала расширяться, в ней читали лекции такие ученые, как филолог Менендес Пидаль или ректор университета в Саламанке Мигель де Унамуно; поэты Хуан Рамон Хименес и Антонио Мачадо выступали там со своими новыми произведениями, лучшие артисты и художники захаживали туда по вечерам.
И все же настоящая история Резиденции началась уже на этом Тополином холме, открытом всем ветрам, когда построенные здесь здания, простые и строгие, наполнились голосами, смехом и ровным шумом, похожим на гудение огромного улья. Местоположение было выбрано с тонким расчетом: в пределах столицы и в то же время вдали от столичной суеты. Вот так же — не изолированно от общественной жизни, но и не соприкасаясь с ней слишком тесно, а как бы возвышаясь над нею, — должно было совершаться гармоническое воспитание юношества. Несколько писателей, художников, исследователей, известных своим трудолюбием и безукоризненной честностью, получили приглашение поселиться в Резиденции с единственной задачей — служить нравственным примером для студентов.

«Студенческая резиденция». Рисунок Хосе Морено Вильи
Созданию обстановки, способствующей развитию в молодых людях чувства прекрасного, было уделено не меньше внимания, чем оборудованию лабораторного корпуса. Сам Хуан Рамон Хименес руководил посадкой кустов и разбивкой цветников — в этом вот уголке, прозванном Садом поэтов, он собственноручно посадил олеандры, привезенные из Эскуриала, окружив их со всех сторон самшитовыми деревьями.
Сегодня в Рези полтораста студентов — разумеется, из обеспеченных семей: пребывание здесь обходится не дешево. Лучшие умы Испании участвуют в ее работах, да и европейские знаменитости, посетившие Мадрид, не минуют Тополиного холма, а иные из них приезжают специально по приглашению Альберто Хименеса. На публичные лекции по самым разнообразным вопросам — от астрономии до этнологии, на концерты и литературные вечера собирается цвет столичной интеллигенции. Итак, корабль благополучно миновал опасные рифы, выдержал не одно пиратское нападение... Так что же тревожит капитана, почему в это безмятежное утро он вдруг хмурится и лицо его отвердевает?
Стоит только взглянуть за пределы Резиденции, как вспоминаешь, что вся эта пустующая территория вокруг нее продается. Пока что поблизости находится только здание Музея естественной истории — соседство вполне достойное — да еще казарма гражданской гвардии — соседство, не столь желательное, но и особого беспокойства не доставляющее. А найдись покупатель на пустыри — и прощай тогда тишина и уединение: понастроят кругом доходные дома, обезобразят несравненный вид, открывающийся с вершины холма, и шум городского торжища ворвется в аудитории.
Но что эта внешняя опасность по сравнению с той, которая подкрадывается изнутри! Дух всеобщего отрицания, дух безверия и цинизма, тлетворный дух времени — за какими стенами спрятать от него молодежь?
Когда Испания осталась в стороне от военного безумия, охватившего великие нации, не один Альберто Хименес увидел в этом знамение судьбы. Быть может, именно испанцам суждено уберечь от пожара сокровища разума и человечности, стать провозвестниками духовного обновления Европы? При мысли о том, какая миссия ожидает Резиденцию после войны, голова начинала кружиться.
Однако послевоенная Европа не собиралась образумиться; жестокость победителей, угрюмое бешенство побежденных, классовые бои — все сулило новые потрясения. Цивилизация, в которую дон Альберто верил, как в бога, обнаруживала признаки неизлечимой болезни, зловещие пятна проступали на всех ее плодах, на самых утонченных произведениях человеческого ума и таланта.
А теперь вот эта болезнь беспрепятственно проникает в Испанию. И здесь раздаются модные пророчества о крушении всего, на чем держится свет, — и религии, и морали, и государства, и семьи. Мыслящая интеллигенция набросилась на книгу француза Поля Валери, который приглашает философски взирать на то, что мир наш рушится в бездну. Перепечатываются манифесты дадаистов, освобождающих слово от смысла, а человека от ответственности; находит приверженцев кубистическая живопись, на которую дон Альберто не может смотреть без отвращения. Обзавелись мы и собственным «измом» — бойкие юноши (как их, бишь? Да: ультраисты) произносят скандальные речи, выпускают журнальчики в непристойных обложках и, бог ты мой, к чему только не призывают — к разрыву со всеми условностями, к динамизму, к новизне во имя самой новизны...
Хуже всего — легкость, с какой это поветрие овладевает умами молодежи. Был студент как студент, сидел в библиотеках, в меру ленился, в меру повесничал, и вдруг — экстравагантность в одежде, движения развинченные, а в глазах полнейшее недоверие, а то и презрение ко всему, что скажут старшие, ему же, юнцу, добра желающие. Взять хотя бы того же Луиса Бунюэля, который сперва занялся энтомологией, потом решил стать инженером, а теперь все забросил и увлекся — смешно сказать! — кинематографом. Начнешь его увещевать — заявляет, что в одних только похождениях смешного человечка в котелке больше мудрости, чем во всех чудесах науки и техники. Что выйдет из этого юноши?
А что выйдет из его приятеля-гранадца? Этот о мудрости вообще не заботится, к лекциям — никакого интереса. Целыми днями носится по городу, как веселый щенок, пропадает в театрах, а вернется в Резиденцию — и все поставит вверх дном, только и слышно: «Федерико, спой!» да «Федерико, почитай!»
Поет он, правду сказать, превосходно и стихи пишет славные, без выкрутасов, не мудрено, что все студенты их повторяют. Альберто Хименес и сам знает кое-что на память. Это вот, например:
Выходят веселые дети
из шумной школы,
вплетают в апрельский ветер
свой смех веселый.
Какою свежестью дышит
покой душистый!
Улица дремлет и слышит
смех серебристый.
Стихи как стихи, ничего особенного, однако с каждой строчкой к дону Альберто возвращается хорошее настроение, в котором он начал свою прогулку. А дальше как?
Иду по садам вечерним,
в цветы одетым,
а грусть я свою, наверно,
оставил где-то...
Оглушительный треск — словно небо разодралось сверху донизу. Директор вздрагивает, но тут же успокаивается: это в казарме гражданской гвардии, там сегодня учебные стрельбы.
3
Поздно ночью, выпроводив засидевшихся приятелей и завесив окно, чтобы свет не выбивался наружу, Федерико принимался за пьесу. В ней появились новые лица — Тараканиха-колдунья и злой Скорпион, циник и пьяница; действие усложнилось. Мирок насекомых потрясали те же страсти, что и людской род, получалось чуть забавно, чуть трогательно...
Ничего не получалось! Была комедия в стихах, а поэзии в ней не было, поэзия исчезла куда-то, и монологи звучали напыщенно, а шутки — тяжеловесно. Напрасно он расцвечивал речь персонажей, сочинял для них андалусские песенки — ощущение деланности не оставляло его, работа шла безрадостно.
Но наступало утро, в телефонной трубке раздавался нетерпеливый голос директора театра «Эслава», и времени для колебаний не оставалось. Федерико мчался к дону Грегорио, прочитывал ему сделанное за ночь. Тот приходил в восторг, требовал продолжения.
Затем отправлялись на репетицию. Упоительно пахло клеем, гримом, пылью. Люди, которые каждый вечер заставляли смеяться и рыдать капризную мадридскую публику, заполнявшую зал — такой пустой и темный сейчас, — эти самые люди двигались по сцене, произнося написанные им, Федерико, слова! Но теперь это были словно уже не его слова — слитые с движениями, жестами, мимикой актеров, они неузнаваемо менялись, приобретали пугающую самостоятельность. Казалось, новорожденная пьеса отделяется от автора, бредет, пошатываясь, на слабеньких ножках...
Баррадас приносил эскизы декораций. Смелость этих эскизов смущала даже дона Грегорио — деревья, травы, цветы выглядели на них не то раздробленными на кусочки, не то отраженными в тысяче зеркал. Художник пояснял: пьеса — из жизни насекомых, а у насекомых глаза устроены совсем иначе, чем у нас с вами, на их сетчатке мир отражается именно таким, каким я его изображаю.
Артисты покашливали, переглядывались, но спорить не решались.
Иногда на репетициях к Федерико подсаживалась Мария Мартинес Сьерра — жена дона Грегорио и негласный соавтор почти всех его произведений. Среди экспансивных актеров донья Мария выделялась сдержанностью манер. Она одна не делала Федерико никаких комплиментов, зато высказала несколько стилистических замечаний, справедливость которых он охотно признал.
Федерико нравилась эта немолодая женщина, похожая на школьную учительницу. Она и в самом деле была учительницей и еще недавно преподавала в рабочих кварталах Мадрида. Однажды она задала своим ученицам сочинение на тему «Как бы хотела я провести день, чтобы чувствовать себя совершенно счастливой». Знаете, что они написали?
«Я хотела бы целый день сидеть в кафе и есть мясо с картошкой».
«Я пошла бы в лавку и купила бы еды для всей семьи, а для себя — еще взбитые сливки»...
«Я бы наелась лепешек со свиным салом»...
Скрытый упрек послышался Федерико в этом рассказе, он насупился, приготовившись к проповеди, — дескать, в то время, когда... Но донья Мария заговорила о другом. И все же в эту ночь пьеса показалась ему особенно постылой.
Наконец он вывел на последней странице слово «Занавес». Не хватало только названия. Пора было заказывать афиши, Мартинес Сьерра из себя выходил, а Федерико все не мог ничего придумать. Странное безразличие охватило его — пусть сам дон Грегорио поставит какое угодно название, он заранее соглашается с любым.
Дон Грегорио поймал его на слове. В одно весеннее утро Федерико увидел анонс, извещавший население столицы о том, что 22 марта 1920 года в театре «Эслава» состоится премьера комедии в двух актах с прологом — «Злые чары бабочки».
«Злые чары»! Псевдоромантическое, претенциозное выражение — одно из тех, которые Федерико не выносил... Но, быть может, пьеса его и не заслуживает иного названия? Неужели дон Грегорио, не подозревая того, ухватил самую суть? Недаром репетиции идут последнее время все более вяло, и Федерико уже не раз ловил на себе по-матерински жалостливый взгляд доньи Тараканихи — Каталины Барсены.
Надо было что-то предпринимать. Он с раскаянием вспомнил о закоулочниках — многие из них уже перебрались к этому времени в Мадрид, но в суете столичной жизни Федерико редко с ними встречался. Старые друзья — только с ними мог он сейчас посоветоваться!
Закоулочники явились на зов немедленно, побросав все свои дела. Он прочел им пьесу, потом, не дав никому говорить, первым сказал все, что он о ней думает. Комедия не удалась, ее наверняка освищут, и вопрос теперь только в том, что лучше: покорно ждать провала или отступить, пока не поздно. Он уже приготовил два письма: одно директору театра «Эслава» с предложением отменить премьеру, другое — в Гранаду, отцу, с просьбой прислать денег на покрытие убытков, понесенных театром.
С горьким удовлетворением убедился он, что не ошибся в оценке пьесы, — никто из друзей не стал с ним спорить. Будь еще комедия Федерико одной из тех заурядных пьесок, какими привыкли пробавляться зрители, но в том-то и дело, что в ней немало нового, непривычного, и в то же время это новое было слишком слабо, чтобы постоять за себя. Мадридская публика упряма и зла, что хороший бык, сразить ее можно только безошибочным ударом, а удар, нанесенный неопытной рукой, лишь раздразнит быка... Может, и в самом деле лучше отменить спектакль?
Но тут заговорил Пепе Мора, предложивший взглянуть на дело более широко. Двадцати лет от роду, едва приехав в Мадрид, начинающий драматург удостаивается чести, о которой мечтают десятки писателей, — увидеть свою пьесу на сцене одного из лучших театров столицы. Этого факта не зачеркнет даже провал спектакля — мало ли их проваливалось! — а имя «Эславы» откроет Федерико двери других театров. Напротив, беспрецедентный отказ от постановки накануне ее завершения нанесет незаслуженную обиду дону Грегорио и создаст автору дурную репутацию — едва ли какой-нибудь театр захочет после этого иметь с ним дело.
Доводы Пепе были признаны основательными. В конце концов решили: во-первых, премьеру не отменять — будь что будет; во-вторых, возможный провал встретить стоически; в-третьих, как бы ни прошел спектакль, сразу же после его окончания собраться всем в ресторане и...!
И все же скандал, разразившийся на премьере «Злых чар бабочки», превзошел самые худшие ожидания. Пожалуй, с конца прошлого века — с того памятного мадридским старожилам вечера, когда какой-то завистливый драматург выстрелом из ложи насмерть ранил удачливого соперника, вышедшего на сцену раскланиваться, — старинный зал театра «Эслава» не видел ничего подобного.
Уже пролог, прочитанный перед занавесом одним из актеров, произвел странное впечатление на публику, заполнявшую партер и ложи. Никому не известный автор, дерзко обращаясь к зрителям, упрекал их за пренебрежительное отношение к миру зверей и насекомых: «Вы, люди, полны грехов и неизлечимых пороков — так почему же вам внушают отвращение смиренные червяки, которые спокойно ползут по лугу, купаясь в нежных утренних лучах солнца?»
Впрочем, слова о грехах и пороках позволяли надеяться, что комедия окажется чем-нибудь вроде притчи или басни в лицах. Когда занавес поднялся и на фоне изумрудных декораций начали свой диалог две Тараканихи в причудливых костюмах, публика притихла и стала вслушиваться в слова актеров, ища в них скрытый смысл. Но действие шло, скрытый смысл не обнаруживался, а явный мог лишь усугубить раздражение зрителей: им, взрослым людям, всерьез предлагали вникнуть в переживания всяких там мушек и таракашек!
Негодующий шепот перешел в гул, послышались гневные возгласы. Разошедшиеся остроумцы перебивали актеров ядовитыми замечаниями. Этой участи не избежала даже любимица публики, сеньора Барсена. Стоило ей, изображая мучительное раздумье, приложить руку к блестящей шапочке с двумя торчащими перьями и произнести полагающиеся по роли слова: «Но что гнетет рассудок мой?», и какой-то шутник громогласно откликнулся из партера: «Пара рогов!» — под смех и аплодисменты зрителей.
Напрасно в задних рядах и на галерке надрывались студенты из Резиденции, требуя тишины, — голоса их тонули в криках, топанье и стуке тростей, которыми колотили в пол возмущенные театралы.
Из директорской ложи Федерико глядел на сцену и в зал, судил себя беспощадно. Артисты сделали все, что могли, он один виноват, удар нанесен неопытной, робкой рукой. А все-таки было что-то в его комедии — недаром же так выходит из себя вон тот лысый толстяк в первом ряду партера!
Актеры мужественно пытались продолжать спектакль. Воспользовавшись минутным затишьем, Скорпион выговорил очередную реплику: «Сегодня я на завтрак съел шесть мошек». Толстяк в первом ряду подскочил как ужаленный и, потрясая кулаками, завопил: «Отвратительно, asqueroso!!»
Аскероса! Имя селения, где прошло детство, — каким родным показалось оно в эту минуту! Утренний дым над домами, неумолчная песня воды, и старые тополя, и цикады, скачущие по скошенному лугу, — все вдруг возникло в памяти, и неудержимая, беззаботная радость откуда ни возьмись ворвалась в грудь. А лысый толстяк все не унимался — надо было видеть, как он вертится во все стороны, обрызгивая слюной свое семейство!
Марии Мартинес Сьерра, сидевшей слева от Федерико, послышались звуки, похожие на всхлипывания. Охваченная состраданием, она повернулась и увидела, что освистанный автор хохочет, как школьник, прыская и зажимая рот рукой.
4
На заседании кортесов депутат от Гранады сеньор де лос Риос с гневом говорил о бедственном положении андалусских рабочих, чей суточный рацион не содержит и полутора тысяч калорий. По закону им полагается пенсия начиная с шестидесяти лет, но мало кто в Андалусии доживает до этого возраста! Депутаты слушали сумрачно, гранадский профессор не сообщил ничего нового. Столь же безотрадные вести поступали со всех концов Испании — дороговизна, голод; кое-где дошло до разгрома магазинов и продовольственных складов. Весна двадцатого года была беспокойной: снова забастовали железнодорожники, правительство установило военное положение в Саламанке, Валенсии, Кревильянте; в самом Мадриде женщины «нижних кварталов» вышли на улицы, требуя открыть булочные, запертые хозяевами.
На собраниях и митингах все чаще звучало новое слово — soviet. И анархисты и социалисты призывали к поддержке революционной России, а съезд Национальной конфедерации труда от имени своей миллионной организации заявил: «Нет ничего лучше в мире, чем умереть под знаменем Коммунистического Интернационала» Рассказывали, что даже в казармах Главного штаба стали появляться надписи на стенах: «Да здравствует революция! Да здравствуют Советы!» Офицеры тщетно грозили, увещевали, наконец, старший из них, построив солдат и посулив виновнику прощение, скомандовал: «Кто писал — шаг вперед!» И тогда шагнул вперед весь строй.
Кто-то принес в Резиденцию номер газеты «Реновасьон», издаваемый, как стояло в подзаголовке, национальной федерацией социалистической молодежи, примыкающей к III Интернационалу. Помещенный там манифест «К испанскому пролетариату» клеймил позором социалистических лидеров, толкающих рабочий класс на бесплодный и обманчивый путь парламентаризма, и извещал о создании Испанской коммунистической партии. Далее следовали сообщения из России: Красная Армия отражает натиск белогвардейских сил; в «Правде» опубликована статья Ленина о задачах мирного строительства; Луначарский заявляет, что неграмотность в стране будет ликвидирована в самые ближайшие годы. Была и такая заметка — Федерико она заинтересовала более всего: «В городе Киеве Народный комиссариат просвещения организовал передвижной театр, который предназначается исключительно для обслуживания крестьянства».
Основатели новой партии, решительные и непримиримые юноши, выступили в мадридском Атенее — клубе либеральной интеллигенции — с речами, каких здесь не слыхивали. «Мы пришли сюда, — сказал один из них, — чтобы рассказать вам, как мы, молодые коммунисты, сумели использовать ваши библиотеки. Из накопленных там богатств человеческого знания мы извлекли взрывчатый материал, который разрушит все ваше грязное общество. Воздвигая горделивое здание вашей науки, вы и не воображали, что в его недрах будет выковано непобедимое оружие, несущее вам смерть!»
Аудитория добродушно аплодировала — коммунист выглядел так молодо, грозные слова его казались обычным ораторским преувеличением. Конечно, время беспокойное, народ ропщет, но, с другой стороны, — когда же испанцы не роптали, ведь это естественное их состояние. Правду говорит старая эпиграмма, что легко узнать, откуда человек, по такому признаку: если он хвалит Англию — значит он англичанин, если ругает Германию — значит француз, а если ругает Испанию — значит... испанец!
Столичная жизнь шла своим порядком. Каждый день по Мадриду расходились свежие анекдоты о короле Альфонсе, франте и позере. Каждый день перед королевским дворцом на Пласа де Армерия собиралась толпа, чтобы полюбоваться пышной церемонией смены караула. В Королевском театре русский балет Дягилева давал «Треуголку», и очарованные зрители не знали, чем более восхищаться — музыкой Мануэля де Фальи, танцами Карсавиной или декорациями Пикассо. По-прежнему корриды волновали сердца и умы сильнее, чем прения в кортесах, и когда разнеслась весть о том, что гениальный Хоселито убит быком в Талавере де ла Рейна, столица погрузилась в траур. Всеобщая скорбь усугублялась тем обстоятельством, что ровно за день до гибели своего любимца придирчивая и ревнивая мадридская публика освистала его и закидала подушками.
Субботними вечерами в кафе «Помбо» прославленный писатель и острослов Рамон Гомес де ла Серна, окруженный друзьями и поклонниками, сыпал парадоксами, вышучивал все на свете. Другого, не менее знаменитого Рамона — писателя Рамона дель Валье-Инклана, пьесами которого Федерико особенно восхищался, можно было встретить в ресторанчике «Ла Гранха»; худой, долгобородый, он рассказывал собеседникам свои бесконечные истории, в которых правда мешалась с вымыслом. Ультраисты облюбовали кафе «Прадо» напротив Атенея — там они ниспровергали авторитеты, сочиняли манифесты, готовились дразнить публику очередными журналами и выставками.
С некоторых пор литературная молодежь заговорила о новом поэте — юном андалусце из Студенческой резиденции, который не публиковал своих стихотворений, однако не отказывался прочесть их в дружеской компании. Стихи эти не поражали оригинальностью — чувствовалось в них влияние и Хименеса и Антонио Мачадо, но местами на первый план, оттеснив учителей, выступал провинциальный подросток, выросший на гранадской равнине и еще не позабывший язык детских игр и песенок. Подросток, как ему и полагалось, размышлял над вечными проблемами Добра и Зла (разумеется, с большой буквы), старался выглядеть искушенным и разочарованным, на самом же деле был простодушен, мечтателен и глядел на мир с радостным изумлением.
Впрочем, все эти соображения приходили в голову слушателям лишь некоторое время спустя, когда к ним возвращалась способность рассуждать и они начинали разбираться в своих впечатлениях. Что же это было? Юноша, широкоплечий и смуглолицый, стоял перед ними, читая стихи. Его чтение не имело ничего общего ни с декламацией, ни с импровизаторским наитием — слова рождались, как вздох или вскрик, и звучали с первозданной выразительностью. И казалось, что в стихах широкоплечего юноши изливается лишь часть поэзии, переполняющей все его существо.
Федерико мог торжествовать. Это было то, о чем он мечтал: не доверяясь печатному станку, самому вывести в свет свои стихи и защищать их. Молодого автора, возрождающего традиции устной поэзии, награждали лестными прозвищами — его называли последним аэдом, сравнивали со средневековыми трубадурами и жонглерами, а вождь ультраистов Гильермо де ла Торре изобрел даже специальный неологизм, окрестив Федерико поэтом догутенберговской эпохи — poeta pregutenbergesco.
А в нем нарастало смутное беспокойство. Никогда еще стихи не давались так легко: достаточно было перенестись в детство — а оно всегда летело рядом, — достаточно было опять почувствовать себя тем мальчиком, который еще недавно бродил по гранадским окрестностям... Однако писать стихи означало теперь для него почти то же, что и жить, а в двадцать два года нельзя жить одним прошлым. Новый, огромный, тревожный мир обступал Федерико, и голос этого мира неясным гулом отдавался в глубине его сознания.
Этот гул — то отдаленный, то подкатывающийся почти вплотную — был, пожалуй, сродни той музыке, что пела в Федерико во время занятий с Антонио Сегурой. Вслушиваться в него, пытаться разобрать в нем хотя бы одно слово стало для Федерико привычкой, не покидавшей его и во сне. Не раз он просыпался с бьющимся сердцем, надеясь восстановить в памяти приснившиеся словосочетания. То, что припоминалось, было лишено всякого смысла.
Случалось ему и на людях забываться, испытывая странное чувство: гул как будто сгущался, в нем почти угадывались готовые прорезаться слова... Лицо его бледнело от напряжения, взгляд становился сумрачным, обращенным внутрь. Приятели поталкивали друг друга локтями, показывали глазами на Федерико: «Сочиняет»... Но волна откатывалась, не оставив ничего на берегу. Федерико приходил в себя и градом насмешек вымещал досаду на окружающих.
5
Хорошо было после духоты мадридского лета снова вдохнуть чистый воздух Гранады, поразить сестренок рассказами о столичных модах, поймать на себе ласковый взгляд отца из-под клочковатых бровей и, подхватив на руки мать — она стала совсем легонькой, — носиться с нею по комнатам, отчего донья Висента приходила в неописуемый ужас: «Федерико, ради бога, ты меня уронишь!»
Хорошо было увидеться опять с закоулочниками — с теми, кто, подобно ему, приехал домой на каникулы, и с Рамоном и Пакито, не покидавшими Гранады. Эти двое приготовили друзьям сюрприз, поведя их в первый же вечер не в кафе «Аламеда», а к стенам Альамбры, в маленькую таверну, затерянную среди лавчонок, торгующих сувенирами для туристов.
По дороге они рассказали, что хозяин таверны, старик Антонио Барриос, обладает по крайней мере тремя достоинствами, редкими в трактирщике: не разбавляет вина водой, кормит в долг художников и поэтов, а самое главное — он знаменитый в прошлом кантаор — исполнитель андалусских песен, до сих пор не позабывший своего искусства. Другая достопримечательность — сын его Анхель, превосходный гитарист и незаурядный композитор. Еще перед войной он организовал «Квинтет имени Альбениса», совершивший триумфальное турне по странам Европы. Успех, который выпал на долю каждого гитариста, оказался роковым для квинтета в целом — один из участников застрял в Петербурге, в объятиях русской княгини. Недолго продержался и оставшийся квартет, в следующей столице он такими же судьбами превратился в трио... и в конце концов один только Анхель Барриос возвратился в Гранаду, где ведет ныне жизнь истинного мудреца, совершенствуясь в игре и помогая отцу в таверне. Люди они приветливые, но тряхнуть стариной соглашаются нечасто, и если вам, столичные снобы, посчастливится их услышать, то помните, что этим вы будете обязаны единственно протекции своих друзей, хранящих верность Гранаде. Но бойтесь испортить дело поспешностью и несдержанностью, которыми вы заразились в вашем Мадриде!
Пришлось проглотить эту нотацию и весь вечер провести в крошечном зальце, увешанном сверху донизу картинами и эскизами, терпеливо пересиживая остальных посетителей. Лишь за полночь, когда закрылась дверь за последним туристом, хозяин — седой, проворный крепыш — вышел из-за стойки, снял фартук и, приблизившись к. компании закоулочников, предложил им перейти в сад. Там, среди миртовых зарослей, он составил с подноса на стол пузатую бутылку, стаканы, блюдечко с маслинами и уселся вместе со всеми. Неслышно подошел человек средних лет, темнолицый и толстогубый. В руках у него была старинная гитара, тихим звоном откликавшаяся на каждое слово.
Они сидели в голубом лунном свете, потягивая старое вино, слушая ночь. В тишине возник томительный звук, точно огромная муха, тоскуя, билась в паутине, — это Анхель Барриос, склонившись над гитарой, ткал гранадское тремоло. И старик запел — без предупреждения, словно продолжая разговор.
Да, это был мастер! С какой легкостью выделывал он самые головокружительные мелодические переходы, как расцвечивал и украшал знакомые напевы! Под стать ему оказался и сын — не аккомпаниатор, а равноправный участник дуэта, соперник и в то же время вдохновитель певца, искусно распалявший его своей гитарой. Песни следовали одна за другой — малагенья, пахнущая морем, лихой контрабандистский фанданго, болтливая простушка сегедилья...
Потом наступила продолжительная пауза. Федерико хотел уж было заговорить, но Рамон сжал под столом его руку, призывая к молчанию. Даже в неверном свете луны заметно было, как побледнел старик, — лоб его залоснился, на виске взбухла вена. Снова забилась струна, затрепетала, как тростник на ветру. Где это Федерико видел такой тростник? В памяти встали дрожащие стебли на речном берегу, за ними веером распахнулась в обе стороны масличная равнина в полумраке, под холодным, низко нависшим небом. Но запахнулся веер, пропал тростник. Струнная дрожь превратилась в плач — жалобный, монотонный, нескончаемый плач, слушать который становилось все больнее, все мучительней...
Нестерпимый вопль заставил всех содрогнуться — он распорол ночь надвое, черной радугой повис в воздухе, обернулся песней. Нагое, бесстыдное чувство правило голосом старого кантаора — так говорят с женщиной в час любви, так молят палача повременить. Так пел он о горе, что глубже самых глубоких колодцев, о смерти, бессильной перед любовью, о любви, беспощадной, как смерть. И сверкали ножи во тьме пещер, и раскрывала свои могилы злая, каменистая земля, и дети в лохмотьях глядели на дорогу, по которой меж двух жандармов уходит в тюрьму их отец.
Минута взволнованного безмолвия, полная отзвуков услышанного, и вдруг все поплыло в танце, и Антонио Барриос показал этот танец, не трогаясь с места, скупыми, задумчивыми движениями корпуса и рук. А после не было уже ни пения, ни музыки, одна лишь звенящая тишина, которая все истончалась, таяла, пока последний звук не растаял в воздухе, пока не стала пустыня там, где только что прошла цыганская сигирийя — мать андалусских песен...
— Ну, вот вам, молодые люди, настоящее канте хондо, — севшим голосом сказал старик, утирая лицо и шею.
Молодые люди повскакали с мест. На этот раз дон Антонио превзошел самого себя! Это было феноменально! Да, в столице такого не услышишь!
Федерико молчал. Громадная волна обрушилась на него, накрыла с головой, подхватила и понесла. Канте хондо — «глубокое пение»? Нет: песнь из глубин, поток, бегущий через столетия, от первого на земле рыдания и первого поцелуя! Скорбная мудрость мавров, дикая вольность цыганского племени, испанская, меры не знающая гордыня — все слилось в этом потоке. Сколько людей припадало к нему, растворяя в нем соль и мед своих жизней! Песня была их исповедью, песня становилась их бессмертием. Сменялись поколения и династии, а песня жила и будет жить до тех пор, пока существуют эта земля, это небо, эти неистовые человеческие сердца...
Назавтра же они снова явились в таверну, и дон Антонио из-за стойки приветствовал Федерико как старого знакомого. Опять была ночь в саду, а за ней еще и еще, и все эти ночи были посвящены канте хондо.
Не всякая песня имела право так называться. Гранадины и малагеньи, ронденьи и севильяны, а также многие другие, именуемые обычно андалусскими — фламенко, — все эти песни, неплохие сами по себе, для истинного знатока всегда останутся легким жанром, канте ливиано. Совсем иное дело — несколько старинных песен, не испорченных граммофонами и эстрадными исполнителями. Их нельзя петь когда угодно и перед кем попало, для них нужны особая обстановка, понимающие слушатели, а главное — нужен певец, способный настолько проникнуться духом песни, чтобы запечатленная в ней тоска стала его собственной, чтобы подлинная мука рвала его сердце и подлинные слезы клокотали в горле.
Такова цыганская сигирийя. Такова солеа — слово это означает одиночество, но также и женское имя, и поют ее чаще женщины, чем мужчины. Таковы горная серрана и саэта — разговор с богом на языке песни. Такова петенера, названная именем женщины, которая первой ее сочинила и тем приобрела, говорят, такую славу, что,
когда умерла Петенера,
понесли ее хоронить, —
не хватило на кладбище места
всем, кто шел ее проводить.
Мелодии этих песен не ласкали, а ранили слух. А слова преодолевали сопротивление мелодии — так птица преодолевает сопротивление воздуха, без которого она не смогла бы лететь. Три-четыре стиха вмещали содержание целой драмы, строфа — копла — стоила философского трактата. Песня шла к цели кратчайшим путем, отбрасывая логические мостки. В нескольких словах умела она рассказать о лютой тоске:
«Иду, словно арестант; позади — моя тень, впереди — моя дума».
И о горькой доле:
«Один я на свете, и никто обо мне не вспомнит; прошу у деревьев тени — и засыхают деревья».
И сказать о нетленной страсти:
«Возьми мое сердце, сожги его на свече, но не касайся пепла — и он тебя обожжет».
И о всемогущей любви:
«Я посильнее бога: сам бог тебе не простил бы того, что простил тебе я».
И о непоправимой утрате:
Месяц в желтом кольце,
мой любимый в земле.
Федерико казалось, что в двух этих строках больше тайн, чем во всех пьесах Метерлинка. Ни мистических рощ, ни покинутых кораблей, блуждающих в НОЧИ.
Месяц в желтом кольце,
мой любимый в земле.
Подражать этим стихам было невозможно, да они и не существовали сами по себе, без исступленного голоса, без гитары, без голубой ночи, без задыхающихся от волнения слушателей — без всего, что делало их песней. Ах, раствориться б и ему в той песне, безвестным кантаором бродить от селения к селению!
6
По всем дорогам гранадской равнины тянулись медленные вереницы повозок, груженных сахарной свеклой. Пронзительный скрип колес висел с утра до вечера над Фуэнте Вакеросом, над Аскеросой, над Вегой де Сухайрой, где семья дона Федерико проводила теперь конец лета.
Спасаясь от этого скрипа, Федерико на целый день уходил из дому. Он шагал напрямик, не разбирая дороги, недовольный окружающим и собой. Тополя золотятся, лето позади. Он вернется в Мадрид не с пустыми руками — написано немало новых стихов, некоторые из них, пожалуй, лучше всего, что он сочинил до сих пор. Откуда же эта постоянная глухая тревога, это ощущение, как будто он пытается и не может вспомнить сон, неведомо когда приснившийся?
Зелень вокруг бледнела, отступали назад сады, тропинка становилась круче, горы вырастали, закрывали полнеба. И постепенно раздражение уступало место иному чувству, похожему на то, какое испытывал Федерико в детстве, когда мать заставляла его искать под музыку спрятанную вещь. Повинуясь этому чувству, он брел вперед, в сторону Альамы, оставляя за спиной возделанную долину.
Красноватая пыль под ногами, голые бурые откосы по сторонам. От гранитных скал пышет жаром, который кажется еще сильнее из-за снежно-белых осколков мрамора, попадающихся по пути. Растительность исчезла — лишь кое-где торчит на обрыве искривленное фиговое деревце да топорщится в ущелье агава, подобная окаменевшему спруту. Тишина такая, что в ушах звенит... или это колокол звонит где-то в горах, словно выговаривает: «канте хондо, канте хондо»?..
За поворотом открывается холм. Он лыс; на самом темени — часовня, оттуда-то и доносится унылый равномерный звон. У подножия разбросано несколько домишек; выше, на склоне, виднеются дыры пещер: там обитают бедняки. Какая, должно быть, суровая и однообразная жизнь у людей в этом селении! Что им до того, что есть где-то Мадрид, Европа, великая и кичливая цивилизация? Оливковая роща, источник, церковь да кладбище — весь их мир, неизменный, недвижный, и только флюгера крутятся на ветру, как сто, как двести лет назад.
Канте хондо, канте хондо... Да, это здесь. Не на плодородной равнине Веги, что кажется земным раем, созданным для наслаждения, а именно здесь, в таких вот затерянных селениях, в горестной, в слезной Андалусии живет и поныне ее душа, ее древняя песня. Дикий, заунывный напев, сухая, сосредоточенная страстность, скупо отмеренные слова — все это было как-то связано с замкнутым в кольцо гор пространством, с раскаленными скалами, с низенькими придорожными крестами, которые ставили встарь в тех местах, где совершилось убийство.
Вот как раз один из таких крестов. Буквы стерлись: «Здесь убили...», а дальше не разобрать. Кто поставил его? Быть может, сами разбойники, чтобы проезжие поминали душу убитого? А кто был тот, чья дорога окончилась на этом месте, — торговец, крестьянин, цыган? Ну, пусть цыган... И пусть звали его, как того цыганенка в Фуэнте Вакеросе, — Амарго. Амарго — горький, это имя здесь подходит, вся судьба в нем предсказана.
Имя потянуло за собой остальное: беспредельное одиночество путника, тоскливое предчувствие, ночь — потому, что смерть настигает человека ночью, — очертания горных вершин на звездном небе, топот за спиной, и, когда позади на самом деле послышался стук копыт, Федерико всем телом ощутил темный ужас. Добродушный крестьянин, учтиво его приветствовавший, давно уж скрылся за поворотом на своем вислоухом осле, а Федерико, злясь на себя, все не мог унять сердца.
Домой возвращался поздно, опустевшими, молчаливыми полями — лишь сова вскрикивала вдалеке. Потом у себя в комнате, примостившись к подоконнику, он старался поймать словами то бесформенное, то несказуемое, что томило его и гоняло целый день по горным дорогам. Но слов не было. Так легко рождавшиеся, пока дело касалось верхнего, осознанного слоя чувств, они иссякали сразу же, как только из глубины существа подымалась волна безъязыкой стихии.
Еще не дописав строки, он проникался отвращением к тому, что выводило его перо. Не стихи — чернильные закорючки, бесконечно далекие от владевшей им страсти! Стаи букв, как мошкара, кружились перед глазами Федерико; чудилось, что даже мозг его покрыт чернильными пятнами. Луна бесстрастно освещала ворох исчерканной бумаги.
Это была сущая мука. Но вовсе не знать этой муки было бы, пожалуй, еще мучительней.
7
Мадрид был все тог же — нарядный, легкий, похожий на огромный пароход, совершающий увеселительное плаванье. Конечно, и на таком пароходе есть усталая команда, задыхаются кочегары у топок, но это где-то там, в глубине, а все каюты, салоны, палубы полны беззаботных пассажиров, которые попивают кофе, болтают, кружатся в танцах.
Закружился и Федерико. Внутреннее напряжение ослабло — он снова шутник, пересмешник, всеобщий любимец, душа студенческой компании, о похождениях которой будут годами вспоминать в Резиденции. Впрочем, так ли уж беззаботна была эта компания? То и дело разгорались споры — начавшись на прогулке где-нибудь в окрестностях Мадрида, они допоздна продолжались в кафе «Прадо» и заканчивались под утро в белой, узенькой, как келья, комнатке Федерико.
— Да поймите же, — рычал Луис Бунюэль, сверкая угольно-черными глазами и поворачиваясь всей своей атлетической фигурой то к одному, то к другому собеседнику, точно боксер, принимающий стойку, — поймите, что тот уютный эвклидов мир, который столетиями отражался в зеркале старого искусства, больше не существует! Революция в физике не оставила от него камня на камне! Люди привыкли думать, что живут в доме с ровными, неподвижными стенами, а все это оказалось иллюзией. Стены исчезли, и вокруг — только вихри вещества, только круговорот неведомых форм, мчащихся с чудовищной скоростью. О таком мире не расскажешь средствами удобопонятного, милого вашему сердцу искусства. Тут нужна совершенно новая эстетика!
— Ну, а человек? — пощипывая усы, мягко возражал Хосе Морено Вилья, худощавый поэт и художник лет тридцати с лишним, — один из тех, кто жил в Резиденции по приглашению директора, дабы личным примером благотворно действовать на молодежь. Удавалось ли ему это — сказать трудно, но, во всяком случае, студенты его любили — за скромность, за трогательную преданность искусству, и в компании Федерико он был принят как равный.
— Ведь человек остается человеком и в этом, эйнштейновом, или как его там назвать, мире. Как же быть с человеческим сердцем, как быть с добротой, с любовью, которые ничем не измеришь, которые все те же, что и столетия тому назад! Не в том ли заключается задача художника, чтобы в любых условиях напоминать о человеке, вступаться за него?
Но тут на него всею своей эрудицией обрушивался Гильермо де ла Торре, доказывавший, что и человек — во всяком случае, современный человек — далеко не таков, каким привыкло его изображать искусство. Человек в нашу эпоху чувствует себя игрушкой непостижимых и безжалостных сил, да и в себе самом он обнаруживает мрачные пучины. Его сознание разорвано, расщеплено, его нравственность оказалась в высшей степени относительным понятием, что убедительно продемонстрировала хотя бы минувшая война. Мифы о светлом человеческом разуме, о добром человеческом сердце развенчаны точно так же, как миф о неделимом атоме. Не пора ли и искусству отбросить эти мифы, оставить мещанам здравый смысл, пустопорожнюю мораль и всецело довериться инстинкту, как это делаем мы, ультраисты!
Федерико слушал внимательно, но сам помалкивал. Когда к нему подступали, требуя высказаться — с кем он: с ультраистами, с модернистами? — отвечал, смеясь: «С жизнью. Я — «жизнист»!» Однако друзья не отставали. Тогда, чтобы откупиться, он читал им стихи, привезенные из Гранады, предупредив, что никакого отношения к предмету спора эти стихи не имеют, — просто запись несвязных мыслей и чувств, пронесшихся в нем вслед за падучей звездой, прочертившей ночное небо.
Охотники неземные
охотятся на планеты —
на лебедей серебристых
в водах молчанья и света.Вслух малыши-топольки
читают букварь, а ветхий
тополь-учитель качает
в лад им иссохшей веткой.
Теперь на горе далекой,
наверно, играют в кости
покойники: им так скучно
весь век лежать на погосте!Лягушка, пой свою песню!
Сверчок, вылезай из щели!
Пусть в тишине зазвучат
тонкие ваши свирели!
Я возвращаюсь домой.Во мне трепещут со стоном
голубки — мои тревоги.
А на краю небосклона
спускается день-бадья
в колодезь ночей бездонный!
Друзья вздыхали, переглядывались. Разговор принимал новое направление: до каких пор Федерико будет отказываться публиковать свои стихи? Если б еще негде было, а то Гарсиа Марото, художник и издатель, просто по пятам за ним ходит, предлагая выпустить сборник хоть немедленно. Ведь дошло до того, что в печати появляются стихотворения всяких юнцов, явно подражающих Федерико, а сам он продолжает оставаться неизвестным широкой публике!
Федерико и тут отмалчивался. Ну, как растолковать им то, чего он сам себе не мог объяснить, только чувствовал: став рядами печатных строчек, стихи оторвутся от него, приобретут пугающую самостоятельность, ему нельзя уже будет читать их людям так, как прежде. С чем он тогда останется?..
Оставшись один, Федерико задумывался. Он не любил отвлеченных рассуждений, и все-таки споры друзей волновали его сильнее, чем казалось. Конечно, он на стороне Морено Вильи, почему же слова Луиса и Гильермо так задевают его — и даже не столько слова, сколько угадывающееся за ними чувство тревоги, неблагополучия, катастрофы? Не потому ли, что тревога эта находит отзвук и в его собственном сердце, что минутами и у него возникает ощущение, как будто почва уходит из-под ног, а все вокруг становится зыбким и призрачным?
Хмурый осенний рассвет глядел в окно. Сквозь капли, бегущие по стеклу, еле виднелись горы, начинающиеся сразу же за Мадридом. Сразу же за Мадридом начиналась страна, населенная миллионами людей, словно вышедших из той земли, на которой они живут. Жизнь их бедна, горька, но не суетна. Добро в ней остается добром, правда — правдой, поэзия — поэзией.
Но разве сам он не из этих людей?
8
Накануне Нового года вернулся из России профессор де лос Риос. Почти два месяца провел он там в качестве делегата Испанской рабочей социалистической партии, знакомясь с жизнью Республики Советов и ведя переговоры о вступлении своей партии в III, или Коммунистический, Интернационал. Побывал он и на фабриках и в народных комиссариатах, в детских домах и на специальном факультете для рабочих, наведался даже на «черный рынок», встречался с руководящими деятелями Российской Коммунистической партии, а также и с представителями оппозиционных политических течений. А перед самым отъездом из Москвы он был принят Лениным и долго с ним беседовал.
Дон Фернандо полон противоречивых чувств. Он восхищен подвигом русского пролетариата, который ценой неимоверных лишений удержал власть, организовал отпор вооруженным силам реставрации, героически преодолевает голод, мороз, разруху. Однако режим пролетарской диктатуры с его нетерпимостью к инакомыслящим смущает и даже страшит профессора. Непреклонная убежденность большевиков в том, что только их путь верен, кажется ему фанатизмом, а планы построения свободного и гармоничного общества в отсталой стране, где всего 60 лет назад отменили крепостное право, граничат, на его взгляд, с утопией. Разумеется, он считает, что каждый социалист обязан всемерно поддерживать Советскую Россию, а если понадобится — и встать на ее защиту. Но он решительно против вступления в III Интернационал — такой шаг, по его мнению, ограничит самостоятельность испанских социалистов, лишит их свободы действий.
Как всегда, Федерико пропускает мимо ушей политические рассуждения профессора. Слушая его, он видит гостиницу под непонятным названием «Деловой двор», солдат, шагающих по площади мимо красной зубчатой стены, вагоны, на которых намалеваны аллегорические фигуры, обледеневшие улицы Петрограда, княжеский дворец, превращенный в народный санаторий, где среди мраморных статуй расставлены железные койки, застеленные грубыми одеялами... Он пытается представить себе крутолобого, необыкновенно подвижного человека в Кремле, который с таким живым интересом, вникая в мельчайшие подробности, расспрашивал испанского гостя о положении крестьян в Андалусии и Эстрамадуре, а после увлеченно рисовал перед ним картину будущей России, залитой электрическим светом.
У дона Фернандо узнает Федерико некоторые новости и о собственной стране — из числа тех, что не попадают в печать. Оказывается, правительство Эдуардо Дато, взбешенное успехами рабочего движения, перешло к жесточайшим репрессиям в Каталонии. С благословения премьер-министра губернатор Барселоны генерал Мартинес Анидо организовал форменную охоту на профсоюзных активистов. Вооруженные банды врываются в дома рабочих, устраивают беззаконные обыски, производят повальные аресты, убивают задержанных якобы при попытке к бегству. Каталонские тюрьмы переполнены, по дорогам тянутся вереницы арестантов, отправляемых в самые глухие места. Прискорбно и то, что на правительственный террор анархисты решили ответить своим террором — ни к чему хорошему, считает профессор, это не приведет.
Федерико вспомнит об этих словах через несколько недель, когда Мадрид облетит весть о том, что трое неизвестных на мотоцикле с коляской, нагнав на площади Индепенденсия автомобиль, в котором возвращался домой Эдуардо Дато, всадили в него восемнадцать пуль и скрылись. Сеньор премьер-министр скончается, не приходя в сознание; убитая горем супруга заявит журналистам: «Я так и знала! Сколько раз я говорила, чтобы он не ездил без охраны!», а в общем все останется по-старому.
...А за всем тем, проглядывает ли Федерико газеты, сидит ли в библиотеке, дурачится ли с друзьями, — в нем безостановочно идет незримая работа, смысл которой темен ему самому. И наступает, наконец, момент, когда поющее внутри пробивается наружу, когда волна неотступного гула впервые выносит слова. Они не придумываются, не припоминаются — они возникают, словно кристаллы в перенасыщенном растворе. Довольно случайного толчка — звука потревоженной струны на рассвете, подступившей к горлу тоски по Гранаде — и начинается...
«Начинается плач гитары...»
Будто кто-то прошептал ему эту фразу на ухо — он явственно слышит ее интонацию, подчиняется ее ритму:
Начинается плач
гитары.
Стихотворение выступило на поверхность одним лишь краешком, как когда-то в Аскеросе мозаичная римская плитка, вывороченная из земли отцовским плугом, но Федерико уже угадывает его очертания, предчувствует все, что там будет, — до горестного вздоха в конце. Запершись на ключ, не отвечая на стук в дверь, он расхаживает по комнате, вслушивается, мычит. Слова проявляются, как тайнопись, выстраиваются на бумаге почти без помарок:
Начинается плач
гитары.
Разбивается
чаша утра.
Начинается
плач гитары.
О, не жди от нее
молчанья,
не проси у нее
молчанья!
Неустанно
гитара плачет,
как вода по каналам — плачет,
как ветра над снегами — плачет,
не моли ее о
молчаньи!
Так плачет закат о рассвете,
так плачет стрела без цели,
так песок раскаленный плачет
о прохладной красе камелий.
Так прощается с жизнью птица
под угрозой змеиного жала.
О гитара,
бедная жертва
пяти проворных кинжалов!
Федерико перечитывает стихотворение вслух. Собственный голос кажется ему незнакомым. Такого он еще не писал. Явственней, чем когда-либо, был он в этих стихах самим собою, но он был и гитаристом Анхелем, и стариком кантаором, и каждым из тех, с кем делил тоску и страсть старинной андалусской песни. Канте хондо, канте хондо... Как пароль, как заклинание повторяет Федерико два слова. Он ощущает всем телом: перевал позади.
9
Все прежние стихи сразу отступили назад, в прошлое. Вот теперь, пожалуй, можно и отпустить их в печать. «Наконец-то!» — восклицает Гарсиа Марото, но вскоре приходит в отчаяние от медлительности, с которой автор отбирает стихотворения для своего первого сборника, безжалостно уничтожая слабые и несамостоятельные.
Пора уже отправлять рукопись в типографию, а Федерико вдруг заколебался. Каким юнцом — наивным, незащищенным — глядит он с этих страниц! Отроческая пылкость, безмерная амбиция — легко представить себе, как примет это публика, освиставшая его пьесу! Но воспоминание о публике пробуждает в нем веселую злость. Да, уважаемые сеньоры, он предлагает вам точный образ своего отрочества, своей юности, и он не станет отрекаться от себя даже под угрозой вашего презрения. Набросав предисловие в этом духе, Федерико заканчивает его такими словами:
«При всем ее несовершенстве, при несомненной ее ограниченности книга эта наряду со многими другими достоинствами, которые я в ней усматриваю, обладает тем достоинством, что всегда будет напоминать мне о моем пылком детстве, носившемся босиком по лугам окруженной горами долины».
«Книга стихотворений» выходит из печати весной 1921 года. Друзья шумно поздравляют Федерико, но на то они и друзья; критика безмолвствует — не в ее привычках откликаться на первые книги поэтов, а читатели... откуда ему знать, что думают читатели?
Откуда, например, знать ему, как зачитывается «Книгой стихотворений» девятнадцатилетний художник Рафаэль Альберти, пациент санатория для легочных больных в горах Гвадаррамы? Художник и сам сочиняет стихи, восторгается манифестами ультра — и вот перед ним книга молодого поэта, написанная так, будто никаких ультраистов нет и в помине. И какая книга! Лишь некоторые стихотворения вызывают у Альберти чувство протеста — ну, кого в наше время может интересовать ода, посвященная донье Хуане Безумной? — зато другие, по-народному прозрачные, перевитые припевами детских песенок, пленяют его сразу и навсегда. Он повторяет полюбившиеся строки, наслаждается их звучанием и, быть может, впервые задумывается над тем, сколько возможностей таит в себе песенный строй. Однообразный шум сосен особенно надоедает ему в этот день. Скорее бы поправиться, вернуться в Мадрид, встретиться с этим Федерико Гарсиа Лоркой!..
В уединении кабинета, куда не проникает столичный шум, «Книгу стихотворений» читает — неторопливо и тщательно, как все, что он делает, — человек лет сорока, словно сошедший с одного из портретов Эль Греко, — черный костюм, черная остроконечная бородка, пронзительные черные глаза на бледно-смуглом лице. Выражение этих глаз постепенно теплеет, сомкнутые брови расходятся. Сказать по правде, Хуан Рамон Хименес не ожидал такой книги от милого, непутевого юноши, любимца всех шалопаев Студенческой резиденции. Он видит, разумеется, сколько в ней провинциальности, мальчишеского позерства и просто дурного вкуса, но замечает и несомненный талант. А вот стихи, от каких бы, пожалуй, и сам он не отказался.
О мой дождь францисканский, ты хранишь в своих каплях
души светлых ручьев, незаметные росы.
Нисходя на равнины, ты медлительным звоном
открываешь в груди сокровенные розы.
Тишине ты лепечешь первобытную песню
и листве повторяешь золотое преданье,
а пустынное сердце постигает их горько
в безысходной и черной пентаграмме страданья.
Что ж, поэту Хименесу приятно новое подтверждение того, что молодое поколение испанской лирики идет по его пути. Юноша заслуживает внимания. Надо помочь ему найти себя, избавиться от злосчастной тяги к актерству... Пусть поймет, что только одиночество и самоуглубление воспитывают поэта. И он решает пригласить Федерико Гарсиа Лорку участвовать в журнале «Индисе», вокруг которого Хуан Рамон Хименес намерен собрать лучшие поэтические силы.
Фернандо де лос Риос получил сборник стихов Федерико не в очень-то подходящее время. На только что состоявшемся Чрезвычайном съезде социалистической партии большинство делегатов поддержало его точку зрения, проголосовав против вступления в III Интернационал. Тогда старейший деятель партии Антонио Гарсиа Кехидо от имени делегатов, оставшихся в меньшинстве, заявил, что они покидают съезд и образуют другую партию, которая присоединится к Коммунистическому Интернационалу. Это раскол.
Но чем же, как не поэзией, отвлечься от докучных мыслей! Дон Фернандо рассеянно перелистывает книгу, радуясь встрече со знакомыми стихами, улыбаясь воспоминаниям, которые они будят. Да, гранадская долина, утренняя свежесть, песня воды... И вдруг: Великий Ленин.
Что такое? Он, должно быть, переутомился... Федерико, с его равнодушием к политике! И все же — черным по белому: Великий Ленин.
Профессор возвращается к пропущенному началу стихотворения. Название самое невинное — «Песня луне», а дальше нечто, хм, причудливое. Поэт в шутливо-торжественном тоне обращается к луне. Луна в его глазах — жертва тирании Иеговы, который обрек ее вечно двигаться в небесах одним и тем же путем. Поэт призывает луну взбунтоваться! Верь, говорит он ей, что и в небесной округе появится свой Великий Ленин...
Все это не более чем озорство. Смешно было бы на основании такого стихотворения делать выводы о каких-то политических симпатиях. Навряд ли и компаньеро Гарсиа Кехидо одобрит подобное легкомыслие. Что же касается дона Фернандо, то он, разумеется, не сердится — на Федерико вообще невозможно сердиться, — просто хватит с него на сегодня стихов.
Однако надо же: в сборнике, где нет ни одного стихотворения на общественную тему, ни одного имени современного деятеля, — и вот извольте...
Ему досадно.
10
Здесь кончались чужие следы. Земля, лежавшая перед ним, была его родина, его Андалусия, — не такая, какой выглядела она со стороны, и не такая даже, какой запомнил ее Федерико, а такая, какой лишь сама она умела видеть себя в зеркале народной поэзии. В том колдовском зеркале отражалось не только пространство, но и время. Пропадало все случайное, преходящее, оставалось изначальное, вечное. Открывался древний, неумирающий мир, таящийся за личиной повседневности, мир ненасытных страстей, мир поверий и мифов, мир канте хондо.
Принадлежать к этому миру значило быть сопричастным всему сущему — луне и звездам, земле и морю, камню, птице, цветку розмарина. Обращаться за помощью к ветру, поверять реке сокровенные чувства. Ощущать себя каждым из живущих рядом с тобою людей, дышать и трепетать в одном с ними ритме.
Любовь, тоска, ужас смерти — все в этом мире было огромным и грозным, как впервые. Куда только девались пресловутый андалусский юмор, гранадская сдержанность! Здесь не стыдились патетики, не знали полутонов, жили крайностями. Человек то падал лицом в дорожную пыль, то с вызовом обращал взор в небеса. Он понимал, что обречен, и не искал утешения, но требовал ответа: за что?
Песни других областей Испании позволяли представить место их действия — горы Астурии в сером тумане, безлесную арагонскую степь. В канте хондо пейзажей не было. Ни скал, ни рощ, ни вечерних и утренних зорь — одна лишь безлунная, все, кроме звезд, скрывавшая ночь. Ночь, как судьба, настигала человека в дороге, ночь оставляла его наедине с любовью и скорбью. Дорога никуда не вела; впереди, на перекрестке, ждала смерть — женщина в черном платье. Холодный металл входил в живое, трепещущее сердце, над убитым вставало пламя погребальной свечи, звон колокола горестным эхом отдавался в тысячах сердец...
Древняя андалусская песня вела за собой Федерико, учила своему языку, который чем дальше, тем больше казался ему похожим на полузабытый язык раннего детства. Нет, не гостем чувствовал он себя во владениях канте хондо — скорее законным наследником, не объявлявшимся до поры. И не за малой данью, не за примерами для подражания пришел он сюда — ему нужен был весь обступивший его мир, со всем, что угадывалось в его глубинах. Завоевать этот мир для поэзии, перенести его целиком в свои стихи — вот чего он хотел.
11
Неужели она получилась, наконец, эта музыкальная фраза? Недоверчиво вслушиваясь, Мануэль де Фалья еще и еще раз проигрывает четыре такта — результат нескольких дней изнурительного труда. Да, кажется, он добился-таки необходимого ему варварского звучания для сцены у мавров, где томится в плену прекрасная Мелисандра... Радоваться рано; возможно, что завтра, в беспощадном утреннем свете, все снова покажется неудовлетворительным, но на сегодня — довольно. Он выпрямляется, потягивается, встает из-за пианино.
Еще не остыв от работы, он выходит на балкон, смотрит на снежные вершины вдали, на черепичные крыши Гранады, убегающие вниз. Прекрасный вид, прекрасный дом — да еще за такую сравнительно низкую плату! — и всем этим он обязан своим молодым друзьям, закоулочникам, как они себя называют...
Композитор усмехается, вспомнив, с каким откровенным изумлением воззрились они на него в вечер их знакомства в таверне Антонио Барриоса, явно не веря, что невзрачный, тощий человечек в потертом костюме из магазина готового платья — это и есть знаменитый Мануэль де Фалья, создатель «Короткой жизни», «Треуголки», «Ночей в садах Испании»! И как смутились эти юноши, когда он со своей обычной откровенностью спокойно сообщил им, что из-за размолвки с издателем оказался вынужденным свести к минимуму все расходы, да, собственно, и в Гранаду надумал переехать, прослышав о здешней дешевизне. «И это в то время, — воскликнул, не удержавшись, один из них, Хосе Мора, — когда сочинители куплетцев и порнографических водевилей загребают сказочные гонорары!»
На следующий же день новые знакомцы явились в гостиницу, где он остановился. Не согласится ли маэстро взглянуть на дом, который они присмотрели для него на улице Верхняя Антекеруэла? Он не согласился только с титулом «маэстро» — «учитель», приличествующим одному Иисусу Христу, все же прочее принял с благодарностью и вот уже который месяц живет здесь, наслаждаясь возможностью спокойно работать над оперой «Театрик мастера Педро».
Первое время он опасался, не станут ли молодые друзья слишком докучать ему своим вниманием. Однако юноши оказались в высшей степени тактичными и приходили в гости не иначе, как по приглашению. Он приглашал их все чаще; композитору нравилась эта компания, связанная давней дружбой и каждое лето воссоединявшаяся в Гранаде.
Незаметно для себя он привязался к закоулочникам — к рассудительному и энергичному Пепе Море, к меланхоличному толстяку Пакито Сориано, к великолепному гитаристу — если б он только не мнил себя еще и композитором! — Анхелю Барриосу, даже к Федерико Гарсиа Лорке, хоть Федерико и заслуживал осуждения: обладать такими способностями — и променять музыку на литературу!.. Он проводил с ними целые вечера, беседовал, играл отрывки из своих любимцев — Куперена, Скарлатти, Рамо, с удовольствием слушал их рассуждения на любые темы, кроме одной: политику Мануэль де Фалья раз и навсегда попросил оставлять за порогом его дома.
Кое-кого из них он счел возможным познакомить со своей работой. Либретто его беспокоило, местами текст никак не ложился на музыку. Федерико, следует отдать ему справедливость, бывал здесь особенно полезен — он с такой легкостью находил словесные соответствия музыкальным образам, словно сам жил в двух стихиях сразу.
Закоулочники оказали дону Мануэлю еще одну немаловажную услугу. Как только он обосновался в Гранаде, сюда то и дело стали наезжать почитатели его таланта из разных стран. Очутившись в прославленной мавританской столице, они, естественно, не могли не осмотреть всех ее достопримечательностей, и долг гостеприимства стал бы для композитора тягостным, если б не молодые друзья, которые охотно брали на себя обязанности гидов и тем сберегали ему драгоценные часы для работы. А когда отбывали гости, гиды вознаграждали себя представлениями, которые Федерико давал в садике у дона Мануэля. Композитор невольно фыркает, вспомнив последнее из этих представлений: клавесинистка Ванда Ландовская пытается объясниться с цыганами на Сакро-Монте.
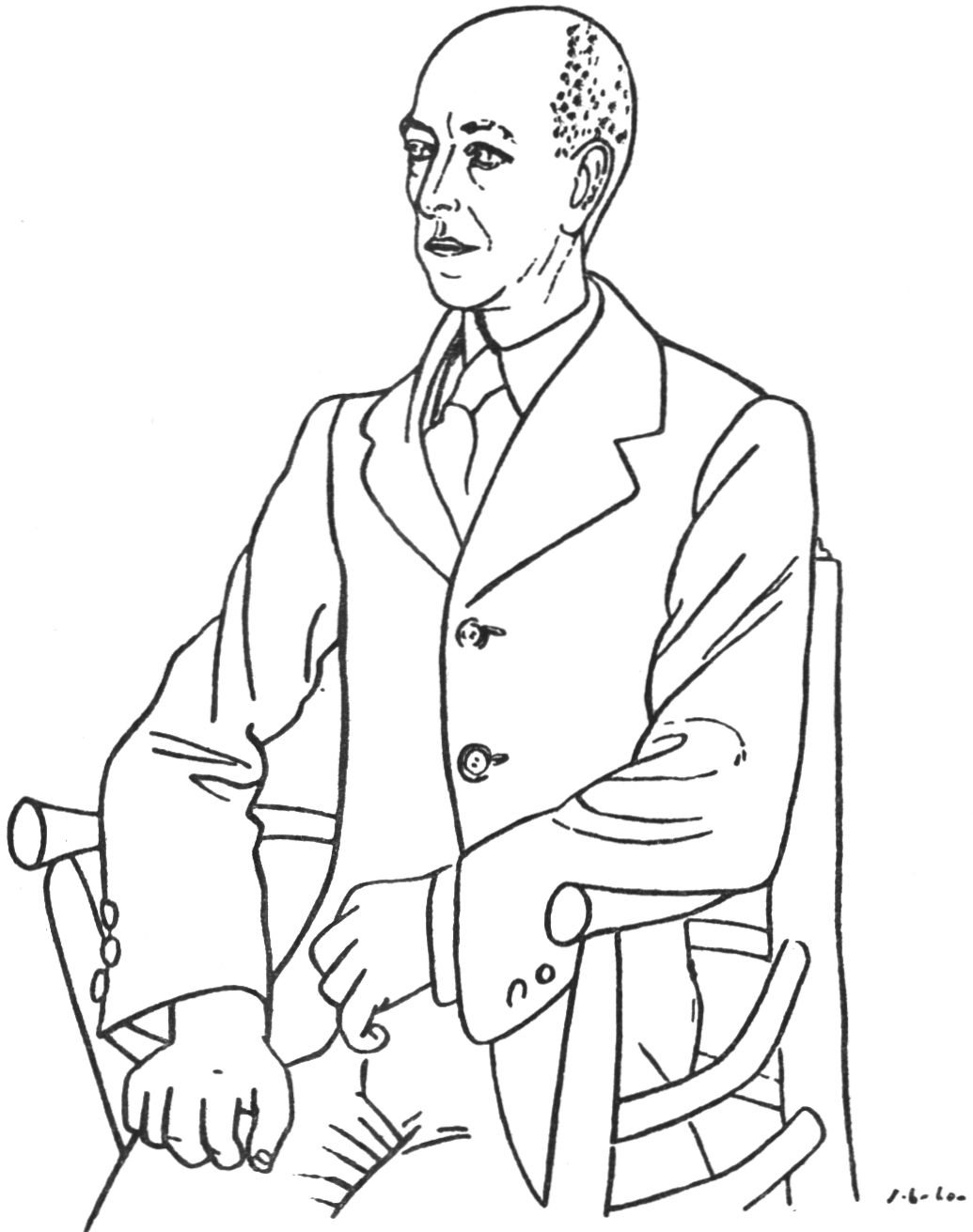
Мануэль де Фалья. Рисунок Пабло Пикассо
Пора спускаться к вечернему чаю — снизу уже доносится запах поджаренного с сыром хлеба, любимого угощения закоулочников. А вот и они. Оживленная компания вываливается из-за угла. В центре — Федерико; опять, наверное, кого-то изображает. Ну, так и есть. Он как будто стал меньше ростом; походка осторожная, точно у слепого, невидимая трость в руке, и во всей фигуре — смешанное выражение замкнутости, сосредоточенности, отрешенности... Ба, да ведь это же я, Мануэль де Фалья!
Невидимый с улицы за листьями винограда, облепившими балкон, композитор жадно вглядывается. Ему и в голову не приходит обидеться. Откуда, ну откуда так знает его этот широколицый мальчишка, которому он в отцы годится? Откуда ему знать о бессонных ночах, о вечно грызущей неудовлетворенности сделанным, об одиночестве, о редких минутах счастья, когда вдруг чувствуешь; получилось, вышло! И все-таки он, несомненно, знает все это — и не только знает, но и каким-то непостижимым образом умеет передать, воспроизвести всем своим существом!
Сходя по лестнице навстречу молодым голосам, Мануэль де Фалья с удивлением думает о том, что осенью, когда почти все закоулочники снова покинут Гранаду, ему никого так не будет недоставать, как этого мальчишки.
12
Еще в Мадриде, отхлопывая до боли ладони на представлениях балетов де Фальи, на концертах, где исполнялись его произведения, Федерико не без ревнивого чувства говорил себе: «Вот человек, который в своем деле достиг того, к чему я в своем только еще подбираюсь». Этот уроженец Кадиса, прошедший новейшую французскую школу, сумел, как никто до него, оценить и использовать музыкальные богатства старинной андалусской песни — ее полувосточный колорит, мелодическое своеволие, свободный и вместе с тем напряженный ритм. Он принес в свою музыку страсть и скорбь канте хондо.
Ни к одному поэту не пошел бы Федерико в ученики так охотно, как к этому композитору. Но с чем, собственно, мог он прийти к де Фалье, о чем просить его? Он так бы ни на что и не решился, если б не счастливый случай, столкнувший их как-то летом в Гранаде.
Все восхищало его в доне Мануэле — взыскательность к себе, безразличие к славе, отвращение к громким словам, пунктуальность, граничащая с педантизмом. Даже благочестие, чуждое всякого фанатизма, напоминавшее Федерико наивную набожность его земляков. Он знал, что композитор равнодушен к его стихам, осуждает его за измену музыке, считает дилетантом — ну и пусть... Было радостью хоть чем-нибудь помочь этому человеку, развлечь, увидеть редкую улыбку на его лице. Было радостью просто сидеть подле него, молчать, слушать неторопливую речь.
Музыка в этом доме, где ей так самозабвенно служили, вовсе не считалась ни волшебным таинством, ни божественным откровением — композитор называл ее своим ремеслом и говорил о ней увлеченно, но трезво. Говорил он о том, что вот уже и в Испании завоевала права гражданства простая истина: единственный хранитель музыкальных традиций, источник музыки — это народ. Однако так ли уж проста эта истина, как думают иные люди, которые сочиняют по готовым фольклорным образцам, подвергая их соответствующей обработке? Что касается его, то он так не думает. Важен дух народного творчества, а не буква, и сам народ дает лучшее тому доказательство — он бесконечно варьирует мелодии своих песен, но бережно сохраняет коренные особенности их звучания и ритмики. Итак, не копировать внешние проявления народного духа должен композитор, а идти в глубину песни, к ее истокам, постигнуть ее законы и только тогда создавать собственную музыку. Дойти до сути и выразить ее — огромный труд, но труд этот должен быть совершенно скрыт от слушателей, так, чтобы произведение казалось чуть ли не импровизацией!
Следя за размышлениями дона Мануэля, Федерико не переставал думать о своем. Непосредственной связи тут не было, его поиски шли в другом измерении, где ничем не могли помочь самые интересные мысли о тональном своеобразии андалусской песни или о самостоятельной роли, которую играет в ней аккомпанемент. И все же каждый вечер, проведенный с де Фальей, помогал ему. Возникали образы, проступали отдельные строки. Вырисовывались очертания целой книги — он назовет ее «Стихи о канте хондо».
Эта книга станет дневником его путешествия в мир старинной андалусской песни — со всем, что он понял и пережил, идя по следам цыганской сигирийи, слушая солеа, оплакивая петенеру. Там будет и земля, на которой родилась песня, и города, в которых она поселилась, и люди, которые поют песню, и то, о чем поют они. Каждая запись в дневнике будет стихотворением — конечно, не таким, какие писал он раньше... Но каким же?
Казалось бы, сама песня подсказывает ответ, предлагает свои литые, десятилетиями выверенные строфы — точнее, лучше, чем там, не скажешь. Бери эти строфы за образец, состязайся с их безыменными авторами! Но Федерико знал: не к соперничеству ведет этот путь, а к подражанию, к подделкам вроде тех, что встречал он в «Канте хондо» Мачадо — не Антонио, а Мануэля.
Каждая народная строфа была сгустком страстей, крохотным хранилищем опыта многих поколений. Каждая строфа подобна была сказочному сосуду, в котором заключен джинн — и не один, а тысяча! Копировать такую строфу — все равно что срисовывать запечатанный сосуд: рисунок может выйти очень похож, почти неотличим от оригинала, но то, что внутри, останется неуловленным... Так как же дойти до сути и выразить ее собственными словами?
Распечатать сосуд! Выпустить на волю всех джиннов — пусть хозяйничают в твоей жизни! Принять в себя других людей, любить и страдать вместе с ними, тысячу раз умереть и воскреснуть — и лишь затем сесть за стол и, успокоившись — обязательно успокоившись, — заключить все это снова в стихотворение, в свое стихотворение. В такое вот:
Восточный ветер:
фонарь и дождь,
и прямо в сердце
нож.
Улица —
дрожь
натянутого
провода,
дрожь
огромного овода.
Со всех сторон,
куда ни пойдешь,
прямо в сердце
нож.
Или в такое:
Лабиринт,
возводимый годами,
уносится дымом.И остается
пустыня.Сердце,
гнездовье страданий,
уносится дымом.И остается
пустыня.Все грезы на утренней рани,
все слезы
уносятся дымом.Вечна одна
пустыня.
В вечных волнах пустыня.
Меж тем близилась осень. Придя однажды к дону Мануэлю, закоулочники застали его в непривычно дурном настроении, тем более неожиданном, что как раз накануне они провели с ним чудесный вечер в саду у Антонио Барриоса, и старый кантаор, не пожалев сил, привел композитора в полнейший восторг. Впрочем, именно это и оказалось косвенной причиной мрачности хозяина. Сразу же после чая он заговорил о том, что его мучит. Великое, древнее искусство канте хондо гибнет у нас на глазах! Ну, сколько осталось настоящих кантаоров, таких, как дон Антонио? И ведь все они старики. А кто им наследует? Эстрадные певцы, утратившие чистоту стиля, уснащающие свое пение безвкусными фиоритурами! Песня, которая была для народа святыней, ритуалом, превращается в дешевое развлечение, в забаву для туристов. Песня, давшая жизнь нашей музыке, загнана в грязные кабачки, в дома терпимости, а мы, представители образованных классов, спокойно взираем на все это!
Но что же можно сделать?
Дон Мануэль ждал этого вопроса. Расхаживая по комнате, он поделился идеей, которая возникла у него минувшей бессонной ночью: организовать в Гранаде фестиваль канте хондо. Пригласить отовсюду народных певцов, устроить конкурс. Привлечь к фестивалю внимание страны, собрать средства, сделать все для возрождения андалусской песни.
Закоулочники зашумели. Идея великолепная, вот только где взять на это деньги? А муниципалитет? Если убедить чиновников в том, что фестиваль прославит Гранаду, они могут и расщедриться! Кроме того, меценаты, не перевелись же они в Андалусии!
Композитор попросил внимания. Он сам намерен обратиться с ходатайством куда следует, написать друзьям — в частности, знаменитый художник Игнасио Сулоага едва ли откажется помочь такому начинанию. Но дело не только за этим. Дон Мануэль уже немолод, его силы, время и, увы, средства весьма ограничены, а фестиваль потребует огромной предварительной черновой работы, и приступить к ней необходимо теперь же, чтобы успеть к будущему лету.
Нужно вести переговоры и рассылать письма, нужно съездить в Кордову, в Севилью, в Малагу, заручиться согласием тамошних кантаоров... Короче говоря, нужен хотя бы один человек, готовый безраздельно и безвозмездно посвятить себя организации фестиваля.
Ну, так он и знал — молчание! Композитор поочередно обводит взглядом гостей, и под этим взглядом первым опускает глаза Пакито Сориано — конечно, где ему с его здоровьем... Анхель Барриос? К сожалению, таверна требует все больше внимания, отец совсем состарился... Пепе Мора и рад бы взяться, но ему пора возвращаться в Мадрид — как, впрочем, всем остальным, стало быть, и говорить больше не о чем. Обижаться, собственно говоря, не на кого, но по крайней мере Федерико мог бы проявить больше такта и не улыбаться во весь рот — что это его так развеселило?
Он хотел бы заняться подготовкой к фестивалю? Разве он не собирается в Мадрид? То есть как это — будет ездить туда и сюда? А что же с занятиями? И как посмотрят на это родители? А... твои стихи, мой мальчик?
То, что дон Мануэль вспомнил о его стихах, трогает Федерико больше, чем все остальное. Он представляет себе, как нахмурится отец, как пожмут плечами столичные друзья, вспоминает свою уютную келью в Резиденции и веселую толкотню на Пуэрта дель Соль (а до чего же тоскливо зимой в Андалусии!) и, стараясь, чтобы голос его звучал как можно беспечнее, повторяет:
— Я хотел бы за это взяться.
13
Открытие продолжалось. Открытием становилась теперь вся его жизнь. Через горы, поросшие пробковыми дубами, по пустынной равнине — туда, где встает вдалеке одинокая Кордова, окруженная развалинами мавританских стен. И дальше, вниз по течению Гвадалквивира, мимо оливковых и апельсиновых рощ, в звонкую Севилью, в белоснежный Кадис. А еще есть древний город Херес де ла Фронтера — колыбель канте хондо, есть еще Малага, где женщины носят красные мантильи, где ветер пахнет солью и йодом...
Имя Антонио Барриоса открывало Федерико двери любых таверн и кафе в часы, когда там собирались лишь посвященные—мастера, знатоки. В позеленевших зеркалах плавали огни люстр, струны гитар начинали свой медленный танец. Люди на подмостках вступали в спор с судьбой, люди за столиками еле заметно вторили их движениям, шевеля пересохшими губами. Все было всерьез — тоска, страсть, боль, скорбь. Искусство здесь, как в бое быков, ходило рядом со смертью.
В перерывах вспоминали знаменитых кантаоров былых времен — Долорес ла Паррала, лучше которой никто не мог «сказать» солеа, Хуана Бреву — великана с детским пронзительным голосом. Еще находились старики, помнившие самого Сильверио Франконетти, несравненного исполнителя цыганской сигирийи. В середине прошлого века он вдруг бросил свое занятие и отправился в Америку искать счастья. По слухам, он стал там пикадором, потом солдатом, потом разнеслась весть о смерти Сильверио, и мало-помалу имя его забылось. Прошло лет десять, и вот как-то в одном из севильских кафе появился богатый незнакомец, с перстнями на пальцах и золотой цепью на груди. Он велел позвать лучших певцов и танцоров, всю ночь пил херес, слушал и смотрел. А под утро гость, видимо, захмелев, пожелал сам спеть что-нибудь и попросил гитариста подыграть ему ни более, ни менее, как... цыганскую сигирийю! Пробовали его отговорить, он заупрямился — ну ладно же, решили: проучим нахала! Но когда отзвучало вступление — раздался вопль, от которого у всех, кто был в кафе, волосы встали дыбом, уверяют даже, что зеркала потрескались. Мужчины кусали губы, следя за неслыханными изгибами этого раздиравшего сердце голоса, женщины не сдерживали рыданий. Как только он умолк, поднялась старуха танцовщица и вскричала:
— Стойте! Только один человек во всем мире способен так спеть сигирийю!
— Кто же этот человек? — спросил незнакомец, усмехаясь.
— Вы, дон Сильверио!..
Давно уже день наступил, а прославленный кантаор пел и пел, и вся Севилья, столпившись вокруг кафе, праздновала возвращение своего Сильверио Франконетти.
А какие саэты можно было услышать в Севилье на страстной неделе! В ночь на пятницу, когда било два часа, отворялись тяжелые двери церкви Сан-Лоренсо, и толпа, заполнявшая площадь, напряженно вглядывалась в таинственную глубину, где клубился дым курений, мерцали огни, переливались золотые отблески. Оттуда появлялась процессия — идущие по двое люди в черных капюшонах, похожие на диковинных единорогов. Они шагали медленно и торжественно, перекинув через левую руку длинные шлейфы, а в правой неся огромные восковые свечи. Пламя этих свечей двумя огненными линиями прочерчивало темноту площади. В дверях церкви показывалась статуя Христа. Напряжение достигало предела, и в этот момент из толпы, как стрела, спущенная с тетивы, — да ведь саэта и значит «стрела»! — вылетала песня.
Это была почти та же цыганская сигирийя, да и говорилось в ней о том же — о смерти, о скорби, о безмерной муке матери, потерявшей сына, только сыном был Христос, а матерью — дева Мария. И такая земная, языческая страсть клокотала в этой песне, такова была жестокая точность ее слов, что казалось, евангельская трагедия разыгралась только что, на этих вот севильских улицах, и каждый — певец или слушатель — был ее участником и свидетелем.
Процессия двигалась дальше, по улицам, запруженным народом, а навстречу ей с балконов, из окон и прямо с тротуаров все летели и летели стрелы саэт...
И это все тоже превращалось в стихи.
14
— Дамы и господа! Ко всем, кого хоть раз в жизни взволновала народная песня, долетевшая издали, ко всем, в чьи сердца стучалась своим клювом белая голубка любви, ко всем ценителям исконной традиции, неразрывно связанной с будущим, к тем, кто штудирует книги, и к тем, кто возделывает землю, — ко всем вам обращаюсь я с почтительной просьбой. Не дайте погибнуть живым сокровищам народа, драгоценному кладу, веками хранимому в духовной почве Андалусии! Возвращаясь отсюда под покровом гранадской ночи, поразмыслите о патриотическом значении того проекта, который мы вам предлагаем!
Аплодисменты. Уф!.. Кажется, лекция о канте хондо — первая лекция, которую прочитал Федерико в своей жизни, — прошла благополучно. Он кланяется, оглядывает переполненный зал гостиницы «Дворец Альамбры», снятый на сегодняшний вечер Литературно-художественным центром Гранады, отыскивает глазами мать, брата, сестренок. Рядом с доньей Висентой — незанятое место: отец не пришел, он возмущен тем, как легкомысленно проводит Федерико драгоценные зимние месяцы. Мануэль де Фалья одобрительно кивает — ну, слава богу, ведь дон Мануэль не уставал повторять, что от успеха этой лекции будет зависеть судьба фестиваля. Что ж, Федерико не пожалел сил, чтобы тронуть сердца почтенных сограждан и сделать более податливыми их кошельки.
Ну и пришлось же ему потрудиться! Он вложил в свою лекцию все, что узнал сам, вычитал в книгах, выспросил у дона Мануэля. Он рассказал о том, как пятьсот лет назад цыганские племена, появившись в Андалусии, соединили свои древние напевы с древними песнями обитавшего здесь народа. Изложив в доступной форме мысли де Фальи о чисто музыкальных особенностях канте хондо, он подогрел гордость аудитории сообщением о том, какое воздействие оказала андалусская песня на развитие русской музыки — от Глинки до Римского-Корсакова, на французскую музыку — на Дебюсси и Равеля.
Однако по-настоящему свободно Федерико почувствовал себя, заговорив о поэтических богатствах канте хондо. Не заглядывая в записи, он читал на память десятки строф, восхищался ими, заражая своим восхищением слушателей, сравнивал, размышлял вслух, делился тем, что открылось ему самому в последние месяцы. Не без усилия вернулся он к выспреннему тону, в котором полагалось закончить лекцию.
Но это еще не все. После лекции — концерт, в котором среди прочих принимает участие знаменитый гитарист Андрес Сеговия, охотно согласившийся поддержать проект фестиваля. А в заключение концерта молодой гранадский поэт Федерико Гарсиа Лорка прочтет отрывки из своей будущей книги «Стихи о канте хондо».
Потому ли, что сегодня здесь так много говорилось о ритмике, тональности, мелодиях андалусских песен, потому ли, что всего несколько минут назад растаяли в воздухе последние аккорды гитар, а может, и по каким-нибудь иным причинам, но стоит только молодому гранадскому поэту произнести первые строки, как большинству сидящих в этом зале начинает снова чудиться музыка — заунывные, страстные, дикие звуки канте хондо.
Вот и композитор де Фалья не может избавиться от этого наваждения. Уж он-то твердо знает, что лишь музыка в полной мере обладает божественной способностью воспроизводить в памяти ту обстановку, в которой она была впервые услышана, со всеми тогдашними запахами, красками, чувствами, словами. Однако сейчас происходит едва ли не обратное: именно слова, несущиеся со сцены, воскрешают в его сознании цыганскую сигирийю, прозвучавшую в саду у старого кантаора. Он явственно слышит, как забилась, затрепетала струна под пальцами Анхеля Барриоса, как то усиливается, то слабеет томительный звук, хотя ни о чем таком не говорится в стихах Федерико, там — просто пейзаж.
Масличная равнина
распахивает веер,
запахивает веер.
Над порослью масличной
склонилось небо низко,
и льются темным ливнем
холодные светила.
На берегу канала
дрожат тростник и сумрак,
а третий — серый ветер.
Полным-полны маслины
тоскливых птичьих криков.
О бедных пленниц стая!
Играет тьма ночная
их длинными хвостами.
И подобное же чувство испытывает дон Мануэль, слушая, как Федерико читает следующее стихотворение, посвященное самой скорбной из андалусских песен — трагической солеа. Собственно говоря, о песне и здесь ни слова, и все-таки она как бы предчувствуется в этих строках, отрывистыми аккордами падающих в тишину:
На темени горном,
на темени голом —
часовня.
В жемчужные воды
столетние никнут
маслины.
Расходятся люди в плащах,
а на башне
вращается флюгер.
Вращается денно,
вращается нощно,
вращается вечно.О где-то затерянное селенье
в моей Андалусии
слезной...
Композитор задумывается. О чем они, эти стихи, не заимствующие у музыки выразительных средств и тем не менее обнаруживающие такое кровное родство с музыкой — с его музыкой? И вдруг понимает: да о том же, что сам он стремится высказать — не словами, разумеется, а звуками. В словах это стало бы обычной банальностью... «душа Андалусии» или что-нибудь в том же роде. Но вот, оказывается, можно это высказать и словами.
А Федерико уже читает новый отрывок, и публика на несколько минут превращается в уличную толпу, окружившую кантаора, который, никого не стесняясь, самозабвенно и театрально оплакивает петенеру.
Ай, петенера-цыганка!
Ай-яй, петенера!
И место, где ты зарыта,
забыто, наверно.
И девушки, у которых
невинные лица,
не захотели, цыганка,
с тобою проститься.
Шли на твое погребенье
пропащие люди,
люди, чей разум давно
не судит, а любит,
шли за тобою, плача,
по улице тесной.
Ай, моя петенера,
цыганская песня!
Вот это овация! Пожалуй, сам Андрес Сеговия не удостоился такой. Аплодируя вместе со всеми, композитор любуется сверкающей улыбкой Федерико. Какое счастье — быть молодым, играючи постигать тайны искусства и даже не понимать значения того, что создаешь! Ему бы, Мануэлю де Фалье, хоть на час мальчишескую эту беспечность!
Аудитория не унимается: молодой поэт должен прочесть еще что-нибудь. Тишина воцаряется лишь после того, как он делает знак согласия. Улыбка исчезает с лица Федерико. «Когда умру», — говорит он негромко, и слушатели встречают кивками знакомые слова: так начинаются многие строфы сигирийи, теперь пойдут вариации...
Нет, не вариации. Человек, стоящий на сцене, — кому это он казался мальчишкой? — говорит сейчас о себе самом. Он смотрит в лицо собственной судьбе.
Когда умру,
схороните меня с гитарой
в речном песке.
Когда умру,
в апельсиновой роще старой,
в любом цветке.
Когда умру,
буду флюгером я на крыше,
на ветру.
Тише...
когда умру!
Смутная тоска сжимает сердце дона Мануэля, воротничок вдруг становится ему тесен. Он оборачивается — и видит расширившиеся от ужаса глаза доньи Висенты.
15
Все теперь удавалось ему. Даже продолжительные переговоры с муниципальными чиновниками увенчались успехом — отцы города согласились отпустить на проведение фестиваля 12 тысяч песо.
Дожидаясь как-то приема в муниципалитете, Федерико от нечего делать разглядывал картины на стенах. Около одной он задержался. Молодая женщина в одежде смертницы, окруженная монахинями. «Что за горестный день в Гранаде...» — запели в нем тоненькие голоса еще до того, как он узнал Мариану Пинеду, героиню своих детских снов.
Надо же было случиться, чтобы чуть ли не в тот же день старенький университетский библиотекарь, к которому Федерико заглядывал время от времени, показал ему редкую книгу, изданную еще в сороковых годах прошлого века под обстоятельным заглавием: «Донья Мариана Пинеда; повествование об ее жизни, об уголовном процессе, где ей вынесли смертный приговор, и описание ее казни, совершившейся 26 мая 1831 года».
Он читал до утра. Бесстрастная мраморная кукла на одной из гранадских площадей — как не похожа она была на эту строптивую и пылкую дочь капитана военного флота, которая пятнадцати лет от роду связала судьбу с революционером, восемнадцати — похоронила мужа, в двадцать шесть лет помогла бежать из тюрьмы другу генерала Риего, а в двадцать семь отдала жизнь за свободу! Но и книга не договаривала всего, в истории Марианы Пинеды угадывалась какая-то горькая тайна, разгадать ее до конца могло только воображение.
С тех пор Мариана Пинеда стала ходить вместе с ним по Гранаде. Вспоминалась она Федерико и в Мадриде, куда он то и дело наезжал, замечая всякий раз, что политика начинает занимать все больше места в разговорах друзей. После военной катастрофы в Марокко, где в июле 1921 года испанская армия отступила, разбитая наголову, оставив на поле боя больше пятнадцати тысяч убитых и раненых, уже никто не сомневался в том, что монархия катится в пропасть. Расследование причин катастрофы с неопровержимостью выяснило, что одним из главных виновников, наказания которых громко требовали повсюду — в кортесах, на страницах газет, в кафе, на улицах, — является сам король.
Слушая рассказы о скандальных подробностях поражения, о телеграмме, которую Альфонс XIII послал генералу Сильвестре, подстрекая его к злосчастному наступлению на Аннуал («Делай то, что я тебе говорю, и не заботься о военном министре: это дурак»), Федерико невольно думал о том, как мало переменились испанские Бурбоны за минувшее столетие. Нынешний король, вероломный и фальшивый, — чем, в сущности, отличается он от Фердинанда VII, при котором казнили Мариану Пинеду?.. Он слушал, а перед глазами стояла нежная, большеглазая женщина, вышивающая для друзей-революционеров знамя со словами: «Закон. Свобода. Равенство».
Летом 1922 года в Гранаде состоялся наконец-то фестиваль канте хондо. Местом для него была избрана Пласа де лос Альхибес в Альамбре, так что художникам под руководством Игнасио Сулоаги пришлось позаботиться главным образом о том, как поэффектнее осветить эту старинную площадь с высокими башнями по углам. Съехались любители со всей Андалусии, специальная ложа была отведена музыкальным критикам, другая — представителям прессы.
Вечером 13 июня гранадцы заполнили площадь. Даже цыгане покинули ради такого случая свои пещеры на Сакро-Монте. На башнях зажглись багровые фонари, приехавший из Мадрида писатель Гомес де ла Серна произнес краткое вступительное слово, и на сцену, где восседало жюри под председательством де Фальи, начали один за другим подниматься певцы и гитаристы.
Федерико не захотел сидеть на сцене. Куда интереснее было слушать из публики вместе со всеми! Он переходил с места на место, пока не очутился вблизи цыган, державшихся обособленно. Здесь были знатоки построже тех, что сидели в жюри. Рыдания знаменитой певицы Гаспачи, сигирийя, которой кантаор Мануэль Торрес приводил в неистовство остальных слушателей, удостаивались у них лишь сдержанного одобрения.
Негромкие, гортанные голоса цыган, их движения, полные сдержанной силы, волнуют Федерико необычайно. На некоторое время он даже перестает слышать певцов. Все, чем живет он последнее время — не только канте хондо, но и судьба Марианы Пинеды, и мысли о своем будущем, и мадридские новости, не идущие из головы, — все каким-то образом связано с этими бронзоволицыми людьми, еще в детстве завладевшими его снами.
Но вот на подмостки взбирается поддерживаемый под руки с двух сторон семидесятилетний Диего Бермудес из окрестностей Севильи. Запрокинув лицо, иссеченное морщинами и шрамами, неожиданно сильным, пронзающим сердце голосом затягивает он древнюю, никем из присутствующих не слыханную серрану. По площади будто вихрь проносится, цыгане разражаются криками, а там, на сцене, Мануэль де Фалья, привстав, осеняет себя крестным знамением. И в этот момент Федерико видит впереди знакомую спину — значит, отец не утерпел, пришел все-таки! Забыв обо всем, пробирается он к отцу, хватает его руку и, счастливый, ощущает ответное крепкое пожатие.
Отец и сын вместе возвращаются домой в эту ночь. Они словно поменялись ролями. Дон Федерико без умолку говорит о канте хондо, вспоминает мастеров, слышанных в молодости, пророчит первый приз старику Бермудесу, хвалит устроителей конкурса. А Федерико, благодарный и размягченный, внезапно дает обещание: не позднее чем через год он сделает то, чего ждут от него родители, — закончит свое образование и сдаст экзамен на степень лиценциата.
— Лиценциата права? — уточняет отец на всякий случай.
— Лиценциата права, — отвечает Федерико решительно.
Дон Федерико не очень верит в серьезность намерений сына, тем более что все последующее подтверждает его сомнения. Сын по-прежнему делит время между Мадридом и Гранадой; чем он там занимается, в столице, — неизвестно, но здесь никто не видывал у него на столе учебников или кодексов, а только стихи, ноты да еще рисунки: новое, видите ли, увлечение появилось! Приехав же домой на рождество, Федерико с головой погружается в подготовку... кукольного спектакля для гранадских детей. Он сам сочиняет пьесу, расписывает декорации, распределяет роли между добровольцами, вызвавшимися помогать ему. Втянул в это занятие сестер и Франсиско; в доме — столпотворение, с утра до вечера толкутся приятели, что-то мастерят, репетируют, дурачатся, и даже донья Висента потихоньку от мужа шьет кукольные наряды. Тишина наступает только по вечерам, когда Федерико отправляется к композитору де Фалье, который пишет музыку для спектакля.
Однажды отец не выдерживает. Всем известно, что композитор де Фалья в высшей степени почтенный и к тому же чрезвычайно занятой человек; интересно было бы знать, что заставляет его уделять столько внимания детской забаве?
— Дело в том, — охотно объясняет Федерико, — что дон Мануэль только что закончил работу над оперой «Театрик мастера Педро», которая, по мысли автора, должна исполняться марионетками. Но прежде чем осуществить этот смелый замысел, следует кое-что проверить на практике — детский кукольный спектакль как раз и предоставляет такую возможность.
Что ж, дона Мануэля можно понять. Непонятно только, какую пользу принесет вся эта затея Федерико, отдающему ей столько времени и труда. Не собирается же он стать директором бродячего театра?.. Ну конечно, сын опускает глаза, молчит, улыбается.
А Федерико и себе самому не смог бы объяснить, почему возня с куклами так захватила его. Со времени премьеры в театре «Эслава» он не испытывал ничего похожего на то волнение, какое чувствует вечером 5 января 1923 года, когда, выйдя из-за ширм, он торжественно обращается к маленьким зрителям:
— Внимайте, сеньоры, программе представления, которую я объявляю со сцены нашего театра для сведения всего света! Сначала мы исполним интермедию Сервантеса «Два болтуна». Затем вы увидите старинную «Мистерию о трех восточных царях». И в заключение — андалусская сказка «Девушка, которая поливает цветы, и любопытный принц», приспособленная для кукольного театра Федерико Гарсиа Лоркой. Музыка из произведений Педреля, Альбениса, Дебюсси, Равеля, Стравинского подобрана сеньором Мануэлем де Фальей, который руководит нашим небольшим оркестром и сам исполняет в нем партию фортепьяно. Смотрите же и слушайте!
Успех спектакля полностью вознаграждает Федерико. На следующее утро он просыпается человеком, популярность которого у детского населения Гранады может соперничать со славой самых знаменитых разбойников и матадоров. Счастливцы, побывавшие на премьере, разносят слух о ней по всему городу, в дом сеньора Гарсиа приходят целые депутации с просьбами о повторении спектакля, и такими же просьбами осаждают Федерико дети прямо на улицах, обступая его всюду, куда бы он ни пошел. Гордость, с которой он об этом рассказывает, заставляет дона Федерико лишний раз подумать о том, что его двадцатичетырехлетний сын сам еще не вышел, как видно, из детского возраста.
Доходит, однако, очередь и до обещания, данного отцу. В следующий приезд Федерико заявляется в Гранаду вместе с другом, Гильермо де ла Торре. Чемоданы обоих набиты фолиантами, один вид которых вызывает почтение. Друзья запираются в комнате наверху, и целыми днями оттуда доносится только жужжание зубрежки, звучащее в ушах дона Федерико сладчайшей музыкой.
Наступает высокоторжественный день. Облачившись в парадные костюмы и наискромнейшим образом повязав галстуки, Гильермо и Федерико, бледные и решительные, отправляются в Гранадский университет держать экзамен. Несколько часов мучительного ожидания — и семья ликует, поздравляя двух новоиспеченных лиценциатов права, донья Висента укоризненно посматривает на мужа, а тот облегченно вздыхает: наконец-то Федерико сможет стать адвокатом! «Адвокатом?» — повторяет Федерико рассеянно, и отец машет рукой: ладно, у нас еще будет время поговорить!
Лето в этом году тревожно, как никогда: отовсюду поступают грозные вести. В Басконии — кровавые столкновения полицейских с рабочими, в Каталонии шайки убийц, нанятых хозяевами, расправляются с забастовщиками, а на это анархисты отвечают новыми террористическими актами. Споры в кортесах о наказании виновников разгрома под Аннуалом достигли высшего накала. Генералы в бешенстве, правая печать открыто заявляет, что только диктатура твердой руки может спасти монархию и страну. Зашевелилась и армия: в Малаге взбунтовался батальон пехоты, отказавшийся отправиться в Марокко, какие-то волнения происходят и в гранадском гарнизоне...
Уж не потому ли, что местные власти не слишком надеются на солдат, в Гранаде нынче столько гражданских гвардейцев? Они постоянно попадаются навстречу Федерико, их сапоги то и дело грохочут у него за спиной. Ему вдруг вспоминаются слышанные недавно в Мадриде слова Рамона дель Валье-Инклана: «В Испании у интеллигентов общая судьба с цыганами — и тех и других преследуют гражданские гвардейцы».
Сентябрьским вечером закоулочники приходят навестить дона Мануэля в последний раз перед ежегодным разъездом. Только Пепе Мора запаздывает — его, по-видимому, задержали сборы в дорогу более дальнюю, чем у всех остальных: Пепе уезжает в Уругвай. «Может быть, Федерико прочтет что-нибудь новенькое?» — «Охотно. «Сцена с подполковником гражданской гвардии», — объявляет он и, приметив тень неудовольствия, скользнувшую по лицу хозяина, добавляет: — Из книги «Стихи о канте хондо».
Федерико читает, почти не меняя выражения лица, но слушатели видят перед собой то подполковника, окоченевшего от собственного величия, то сержанта — олицетворение служебного усердия. «Я — подполковник гражданской гвардии», — произносит он медленно, как бы упиваясь звучанием каждого слова. «Так точно!» — щелкает каблуками сержант. «И нет никого, кто бы меня опроверг». — «Никак нет!» — «У меня три звезды и двадцать крестов». — «Так точно!» — «Сам кардинал приветствует меня». — «Так точно!» — «Я — подполковник. Я — подполковник. Я — подполковник гражданской гвардии».
Внезапно казарменная идиллия нарушается. Свежий, молодой голос — голос самого Федерико — напевает песенку, бессмысленную и задорную. «Луна, луна, луна, петух поет на луне, и ваши дочки, сеньор алькальд, любят глядеть на луну». — «Что там такое?» — «Цыган!» — кричит сержант, срываясь с места, и вот уже возмутитель спокойствия изловлен, схвачен, доставлен по начальству. Несчастный, он, конечно, даже не догадывается, кто перед ним. «Я — подполковник гражданской гвардии». — «Да», — отвечает цыган небрежно. «А ты кто?» — «Цыган». — «А что это такое — цыган?» — «Да как сказать...» — «Ты где был?» — «На мосту через реки». — «Через какие реки?» — «Через все реки». — «А что ты там делал?» — «Башню из корицы», — говорит цыган, как о чем-то само собой разумеющемся. Башню из... корицы?! «Сержант!» — восклицает подполковник голосом, в котором нет прежней уверенности.
Снизу по лестнице поднимается запыхавшийся Пепе Мора. У него какая-то новость, но, остановленный дружным шиканьем, он осторожно присаживается на краешек стула и делает Федерико знак, чтобы тот продолжал.
«Я изобрел крылья, чтобы летать, и летаю», — сообщает цыган доверительно. «Ай!» — вскрикивает подполковник, а может быть, он уже и не подполковник, ведь все пошло кувырком в этом устойчивом и трезвом мире, стоило только заглянуть туда сказке. «Впрочем, крылья мне не нужны, я летаю и без них». — «Ай!» — «Захочу — и лимоны расцветут в январе». — «Ай-й!» — жалобно повторяет подполковник, отступая. «И апельсиновые деревья распустятся на снегу». — «Ай-й-й-й!» — и, взвыв в последний раз, подполковник гражданской гвардии опрокидывается навзничь с балаганным треском: пум, пим, пам! Он мертв. «Его душа — табачного цвета, цвета кофе с молоком, — деловито поясняет Федерико, — вылетает в окно казармы». «На помощь!» — орет пришедший в себя сержант.
Отсмеявшись, все поворачиваются к Пепе. Стараясь говорить спокойно, он сообщает, что минувшей ночью генерал-капитан Каталонии Мигель Примо де Ривера объявил Барселону на осадном положении и опубликовал воззвание ко всему испанскому народу. Текст воззвания не оставляет сомнений в том, что события в Барселоне лишь начало государственного переворота, цель которого спасти монархию, отдав Испанию под власть военной директории. Там сказано, что страна будет очищена от профессиональных политиков, все центры коммунистической и революционной пропаганды будут заняты войсками, а подозрительные лица будут задерживаться. Одним словом — диктатура...
В наступившей тишине слышен с улицы цокот подков. Федерико бросается на балкон. Лошадиные крупы проплывают под ним, черные плащи, тускло поблескивающие треуголки. Гражданские гвардейцы на конях спускаются вниз по улице.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |