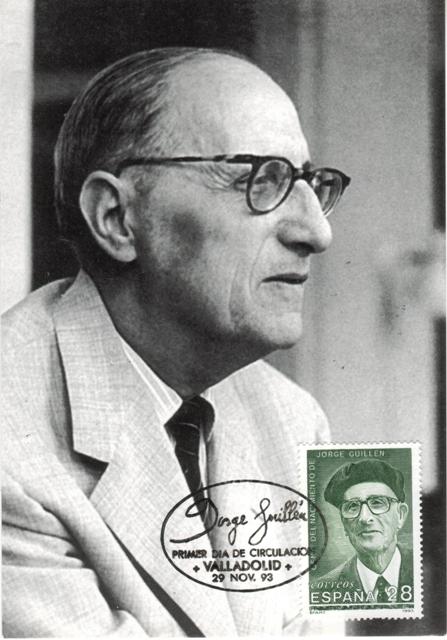Хорхе Гильен
«Это знает каждый, то есть, в данном случае, буквально весь мир: Федерико Гарсиа Лорка был созданием необыкновенным.
"Создание" здесь означает больше, чем "человек". Ведь Федерико давал нам возможность соприкоснуться с творчеством, с глубинными животворящими силами; более всего он походил на родник — та же мощь, свежесть и первозданная, но в то же время сотворяемая на глазах прозрачность. Самого поэта — а не только его поэзию — окружал ореол, от самого поэта исходил свет. Рядом с ним вы переставали ощущать жару или холод, вы ощущали только одно — Федерико. Не потому, что он был так уж своеобычен в манерах, нет, своеобычны корни его натуры: он был создан для Творчества, погружен в Творчество; все в нем, ощущавшем глубинные течения Творчества, начиналось с Творения и им кончалось. Милостью самой природы, а не благодаря искусному владению техникой стиха Лорка был поэтом. Всякий миг его жизни осеняла благодать. (Вот еще одно — важнейшее — понятие.) Отсюда обаяние Федерико, перед которым нельзя было устоять. Он не прилагал усилий, чтобы понравиться. Человек необычный, Федерико считал себя самым обыкновенным и всегда был настолько естественным, что это казалось Божьим даром. Какой дух таился за этой жизнью! Какая духовная мощь! Поэзия Лорки являет нам основы — их открывало ему полуночное вдохновение ("дуэнде", называл его Федерико). Но знавал он и другое — вдохновение ясного дня. Его лучи озаряли поэта и ослепляли нас. Жизнь Лорки всегда была насыщенной, напряженной, причем всякий ее день и час был пронизан творчеством, полетом духа. И никакой вычурности, никакой позы. С Федерико было легче и проще, чем с другими, — он не отделял себя от друзей. Но разве не бросалось в глаза его превосходство? И проявлялось оно даже не в том, как он говорил, не в стихах, не в музыке, не в рисунках. Была в нем какая-то тайная внутренняя суть, какой-то корень, источник света. Главное в Федерико было... он сам. А время лишь воздавало за усилия, одаривая мастерством».
* * *
«Обаяние Федерико Гарсиа Лорки! То была его главная сила, его способ общения с людьми и участия в чем бы то ни было; то был талант, который влек к себе точно магнит. Да и как не влечь, когда в нем играла сама жизнь, а что милее ее?».
* * *
«В каждом человеке таится его детство. Федерико не мог стать существом без корней, хотя бы потому, что в нем всегда жил ребенок. Речь не о ребячестве, не об инфантилизме, которым часто страдают взрослые, сколько бы они ни хмурились, порицаемые фрай Луисом. Я говорю о детстве — подлинном, чистом, суровом. Вольное детство — без полезных занятий, без целей; беготня, забавы, пустяки — словом, игра. Федерико навсегда сохранил готовность к игре, еще с того памятного, вошедшего в стихи апреля: «Мне вспоминается детства апрель...» («Книга стихов», «Грустная баллада»). Он владел сокровищем — ведь россыпи вчерашнего детства и есть сокровище — и оттого становился еще открытее. Он играл — то были игры ребенка и поэта. Играл всем, что попадало под руку, и прежде всего словами, которые радовались игре. Тяжелое становилось невесомым, летучее внезапно тяжелело — и в разговоре и в стихах. Играя, Федерико выводил и нас на волю. Ибо детство — не утраченный навеки vert paradis (Зеленый рай (фр.)), недостижимая мечта тоскующего Бодлера, отторгнутого от блаженства».