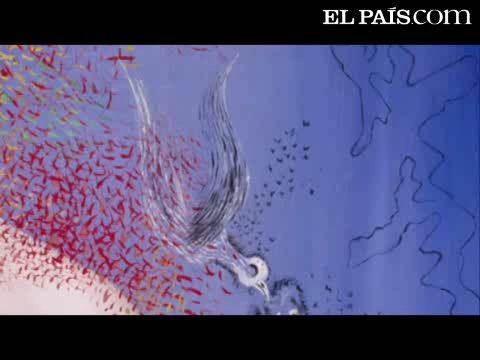«Разговор в Резиденции» (Coloquio en la Residencia) (2010)
Оригинальное название: «Разговор в Резиденции» (Coloquio en la Residencia)
Жанр: документальный
Длительность: 33 минуты
Язык: испанский
Страна: Испания
Год: 2010
Документальный фильм снят на основе писем Федерико Гарсиа Лорки, Сальвадора Дали и Луиса Бунюэля 1922—1924 годов.
Перевод на русский язык
Б. — Бунюэль
Л.— Лорка
Д. — Дали
Б. — Великолепный вечер! Давненько не было такого дождя, я даже соскучился. Дождь неизменно меня радует.
Л. Вас умиляет каждая мелочь! И неважно, будь то маленькие солнышки ирисов на берегах канала или ясный лик луны.
Д. Вы — недостойные дети 1923 года! Вы никакого урока не извлекли из того, что мы умчались на крыльях самолетов. И вы еще смеете называть себя авангардистами! Вы и понятия не имеете, что звук двигателя внутреннего сгорания куда лучше ямбов и хореев. Я ухожу! Ухожу немедленно, потому что, общаясь с вами, боюсь превратиться в допотопное чудовище.
Д. Дорогой Федерико.
Я работаю здесь, в Кадакесе. Когда пишу, разуваюсь — хочется чувствовать землю без помех.
Дорогой Федерико, нет, я не могу приехать. Не могу оставить начатые картины. Приезжай ты.
Здравствуй, Пепин!
Мы с Федерико вернулись из Кадакеса в Барселону. Федерико умирает от страха на волшебных тропах Паралело. Здесь полно народу из разных стран, и это потрясающе. Танцы до восьми утра! В порту пьяные матросы распевают кабацкие песни...
Л.
Моряки, незнакомые с ромом и штормом,
истребляют сирен по свинцовым лиманам. (...)
Современные метры надеются в кельях
на стерильные свойства квадратного корня.
Б. Скучаю по вас. Этой зимой мы, конечно, увидимся в Резиденции. Но — не знаю почему — мне кажется, что ничто уже не будет прежним.
Л.
Чистый нимб парусов, зелень волн...
Нет, «зелень» не пойдет...
Горький лик синевы и песчаные пряди
полукруг парусов замыкает подковой...
Воспеваю твою средиземскую ясность...>
Нет, «средиземская ясность» — не то... Вычеркиваем её... И остается вот что:
«Мне завидны и твой каталонский рассудок,
объясненье всему находящий упрямо...»
Д. Когда же я прочту целиком твою «Оду»? Совести в тебе нет, шлешь по капельке!
Л. Дорогие мои!
Я заканчиваю «Оду Сальвадору Дали». Меня заверили, что в очередном номере «Западного обозрения» ее уже можно будет прочитать. Это будет выполнение давнего и очень важного обещания.
Д. Дорогой Федерико!
Грос (немец) и Паске (француз) уже пытались рисовать тухлячков. Но писали они, к примеру, дурака с ненавистью, со злобой, с яростью, напирая на социальное. И затронули только верхний слой — оболочку болвана.
Мы же возвели глупость в ранг поэтической категории и тем вознесли дурака. Мы ощутили человечную поэзию глупости.
Слушай, когда же я прочту целиком твою Оду?
Л.
О Дали, да звучит твой оливковый голос!
Назову ли искусство твое безупречным?
Но сквозь пальцы смотрю на его недочеты,
потому что тоскуешь о точном и вечном.
Д. Что же до стихов о Кадакесе...
Говорить о стихах, как ты о картинах, я не умею. Но знай, что я, хоть и разбираюсь в литературе, как последний осел, и хромаю на все четыре ноги, все ж таки кое-что в тебе, поэте, понял и углядел гениальность, которой сегодня ни в ком больше нет. Ты, впрочем, и сам это знаешь.
Б. Дорогой Пепин!
Дали находится под глубоким влиянием Гарсиа Лорки. Он считает себя гением, чему немало способствует любовь к нему Федерико. (...) Как мне нравится, когда он приезжает сюда, в Париж, и обновляется вдалеке от влияния этого гнусного Гарсиа!
До свидания, твой друг Луис Бунюэль.
Вот что, Пепин. Дали (в плане искусства) тащится далеко позади, и в этом вина Федерико!
Л.
Но важнее другое...
породнили нас общие поиски смысла.
Д. Твои вещи мерещатся мне едва ли не в каждом углу — то рожок для обуви на полке, то чемодан у стола. Как бы я хотел увидеть во плоти — тебя самого!
Пиши мне обязательно! Каждый день или хотя бы через день.
Л.
Твоя смуглая кисть да купается в море,
населенном матросами и парусами.
Кадакес, балансир лукоморья и взгорья,
Гребни раковин в пене и лесенок ленты...
Д. Экая ты япошка-шоколадка!..
Л.
Наша близость, что схожа с азартной игрою...
Д. ...фирмы «Шушар»!
Л.
Породнили нас общие поиски смысла.
Как назвать это — дружбою или дуэлью?
Д. Жду тебя каждый день. Нам нужно о многом помолчать вдвоем.
В моем «Святом Себастьяне» столько о тебе! Иногда мне даже кажется, что это ты и есть.
Привет, Пепин!
Твоя «Поэма о малых сих» очень плоха. Думаю, ты страдаешь многословием, а шутки твои плоски. Ты даже не представляешь, как трудно найти стихотворение настолько же потрясающее, как то, что я тебе послал — такое поэтичное и такое... антихудожественное!
Окажи такую любезность и пришли мне адрес Бунюэля, который сейчас находится в худшем из возможных для художника состояний. Я имею в виду в кино. Я должен написать ему.
Б. Дорогой Пепин!
Я получил письмо от Федерико и его прихвостня — Дали.
Л. и Д. Пепин, Пепин! Что происходит? Что такое? Ты рассержен? Можно узнать, за что? Не годится поступать подобным образом с таким человеком, как я. Ну же, Пепин! Напиши мне безотлагательно и расскажи обо всем! Давай!
Д. Уж будьте так любезны, сеньорито, напишите!
Б. Дали пишет мне отвратительные письма. Он сам отвратителен.
Федерико отвратителен вдвойне. Во-первых, потому что он родом из Отвратительного, во-вторых, потому что он сам отвратителен.
Л. Мой дорогой Сальвадор!
Едва автомобиль тронулся, как за нами увязался гусь — бежит, крыльями хлопает и вещает, что твой профессор. Я едва не выкинулся в окошко — так мне хотелось остаться с тобой — с тобою! — в Кадакесе. Я и отсюда слышу (ой, сынок, как больно!), как хрустят раздавленные ракушки, кромсая мягкие тельца. Кадакес прекрасен и радостен — это вечная красота моря, из которого (именно здесь!) вышла Венера пеннорожденная. Вышла — и забыла благословенный этот край. А разве не здесь обретается чистая красота?
Дорога пересекла виноградники, и замелькали скалы, похожие на крылья, и валуны, похожие на волны, — как же твои волны похожи на валуны... Придет ночь, и луна...
Б. Ненавижу! Как же я ненавижу луну!..
Л. Придет ночь, и луна, мокрая, как рыба, выльет на колокольню крынку с опарой и выкрасит бедняцкие хижины известкой.
Милые моему сердцу пепелинки! Сальвадор, вспомни обо мне, когда будешь бродить по берегу, но главное — когда примешься за хрупкие, хрусткие пепелинки — таких больше не сыскать! И еще — изобрази где-нибудь на картине мое имя: пусть оно хоть так послужит городу и миру. Вспоминай меня — мне это так важно!
Д. Федерико! Если ты при деньгах, приезжай в Барселону или прилетай на аэроплане, какой-то час, и ты здесь. Я, если б удалось запродать что-нибудь из выставленного мною у Далмау, сам бы прилетел, но — увы! Но тебя не дождешься! Что, боишься летать? А ведь пора нам приступить к слезам нашим, трудам нашим, гладу, хладу и розам! Всего 3000 песет — и какая была бы неделя!
* * *
Сынок-то твой — вот дурачина! И надо же было мне — зачем? — морочить тебе голову! С чего мне было утаивать от тебя восторг душевный, в который привели меня твои чудесные песни? А с того, что я поначалу «не вник», как ты говоришь, — стоял снаружи и ощущал только поверхность, только архитектонику (которая чиста и современна), чувствую и другую поэзию — ту, что живет в названии американского чарльстона (ну, например, «Подайте мне еще кусочек торта»). Почему не пишешь? Я довольно поверхностное существо и всегда готов прийти в восторг от оболочки — хотя бы потому что оболочка — объективная реальность, ее можно потрогать руками.
Сеньор!
Богатейте, богатейте, господин мой, а уж я расстараюсь — буду перед вами юлить, лебезить да подворовывать — держи карман шире! Есть у меня, господин мой, искушеньице послать вам в дар клок моей рубахи цвета лангусты в надежде, что умиление подвигнет вас в свою очередь выслать бедолаге вспомоществование. Подумай только! Будь у нас 500 песет, мы бы выпустили специальный номер «Против искусства» и отвели бы наконец душу — напакостили бы всей этой поросятине, от «Каталонского Орфея» до Хуана Рамона.
Я перечитал «Платеро и я». Жутчайшая дрянь. На каждом шагу, по всякому поводу Хуан Рамон впадает в экстаз, а сам в упор не видит, вообще ничего не видит, ибо воспринимает не мир, а исключительно свои паршивые восторги по поводу мира.
Напишешь мне?
Л. Дорогой мой,
все так переменчиво, невнятно, причудливо — эстетика пляшущего пламени.
Сколько же я теряю, удаляясь от тебя! Я чуть не зарыдал — безотчетно, как Льюис Салерас, как плачут, заслышав самое начало сарданы «Слеза», той, что так любит напевать потихоньку твой отец.
Я вел себя с тобою, как упрямый осел. С тобою — лучшим из моих друзей! И чем дальше я уезжаю, тем глубже раскаяние, тем сильнее нежность.
Сегодня в Барселоне у меня ужин с друзьями. Обязательно выпью за твое здоровье и благословенные дни в Кадакесе...
Д. Кадакес, Кадакес... Хватит уже о Кадакесе!!
Дорогой Федерико, не нужно нырять на глубину, это чревато экстазом.
Чем, кстати, тебе не по душе ирония? Ирония, то есть нагота, и есть чистое, ясное видение.
Нарисовать морю все волны, сколько ни есть!
Я не люблю безмерной любви и потому тщательно избегаю всего, что может привести в экстаз. В семь я кончаю писать и, вместо того, чтобы глазеть на закат (явление почти непереносимое для мироздания), отправляюсь на урок чарльстона — это изумительное средство духовного опустошения как нельзя кстати.
Как же мне хорошо! И никакой тоски по всему, что мог бы сделать, а взамен — эта слитность с природой. Уже, кажется, ясно, где кончается природоведение и начинается искусство.
Я писал весь вечер и написал семь крепких холодных волн — они здесь такие... Завтра напишу еще семь.
...И снова я буду говорить о Священной Объективности, принявшей ныне имя святого Себастьяна.
«Вот палуба белого пакетбота,
где плоскогрудая девушка
учит матросов (...) плясать чарльстон.На каждой стреле обозначена температура,
и стынет кровавый сгусток,
предсказывающий (в точности как барометр!)
каждую новую рану.»
Л. Твой Святой Себастьян так похож на моего! И всегда был похож — видишь, как мы с тобой совпадаем?
Д.
Поднимаюсь
и вижу наверху святого Себастьяна,
привязанного к оливе,
ступни его попирают обломки капители...
Л. Нет! Святого Себастьяна мучили не на вольном воздухе, а внутри дворца. Его не привязывали к узловатому древесному стволу. Нет! Он стоял у колонны из узорчатой яшмы, прозрачно-оранжевой, сердоликовой, как его тело.
Д. Повинуясь закону изящества, святой Себастьян обворожительно бился в агонии...
Л. Сальвадор! Приезжай сюда, в Гранаду. Жду тебя непременно. Поговорим обо всем, вдали от моря и стрел.
Д. Нет. Нет. Насчет Гранады — не буду врать, приехать не смогу. Должен работать все время. Ты и не представляешь, как я поглощен тем, что дела, с какой нежностью пишу я эти окна, распахнутые морю и скалам, эти хлебные корзинки, девушек за шитьем, рыб и небо в изваяньях!
Прощай.
Л. Прощай...
Д. Очень люблю тебя. Мы ведь увидимся в конце концов, на радость нам обоим. <Пиши мне и прощай, прощай> (этого они в оригинале не произносят) Пойду к милым моему сердцу холстам.
Л.
Луна в жасминовой шали
явилась в кузню к цыганам.
И сморит, смотрит ребенок,
и смутен взгляд мальчугана.
Луна закинула руки
и дразнит ветер полночный
своей оловянной грудью,
бесстыдной и непорочной.
— Луна, луна моя, скройся!..
Б. Ненавижу! Всемерно и всемирно ненавижу луну!
Л.
Мне конь почудился дальний...Летит по дороге всадник
и бьет в барабан округи.
На ледяной наковальне
сложены детские руки...
Д.Дорогой Федерико.
Я спокойно перечел твою книгу и должен сообщить тебе свое мнение. Понятно, что оно и в малой мере не совпадает с рассуждениями маститых тухляков, которые уже высказались. Хуже всего — так мне кажется — история о том, как некий тип сводил ее к реке. Твои стихи — плоть от плоти традиции, но! Ты связан по рукам и ногам путами отжившей поэтической манеры, уже не способной ни воплотить сегодняшние порывы, ни взволновать. (...) Поминаешь всадника, полагая, что это он взгромоздился на коня и пустил его в галоп, а это еще вопрос, кто кого пустил. Ведь может статься, что пушок на ухе всадника куда резвее коня.
Я убежден, что сегодня поэзия должна освободиться от всех искусственных построений, навязанных ей разумом, и открыть истинный, реальный смысл всякой вещи.
Ужас — другая материя. Я вкусил смерть у тебя за спиной. Верю, что наступит день — и ты распрямишься, наплюешь на Салинасов, бросишь Рифму, которую весь свинюшник почитает за Искусство и примешься за то, от чего душа возрадуется и волосы дыбом встанут — за такую поэзию, которая дотоле никому из поэтов и не снилась.
Прощай.
Этой зимой я позову тебя в Пустоту. Сам я обретаюсь здесь уже какое-то время и неплохо ориентируюсь.
Тебе — христианскому смерчу — необходимо мое язычество. Тогда, в Мадриде, тебя занесло туда, куда тебе нельзя заноситься.
Прощай.
Л. Дорогая Ана Мария!
Тебя я никогда не забывал, а если и не писал, то не по своей вине, а замотавшись в дурацкой мадридской суетне. Во мне ничто не умирает, даже если я не подаю признаков жизни.
Кадакес стоит у меня перед глазами. Он вечен и вечно нов — вот секрет его совершенства. Морской горизонт над аркадой холмов — словно огромный акведук. Серебряные рыбы тянутся к луне, глухо рокочет моторная лодка, то приближаясь, то отдаляясь, и волны гладят твои влажные косы. А затем в гостиную проберется сумрак, и там не останется никого. И память моя усядется в кресло. Темно-лиловая моя память — как вино, как цыганский вьюнок у стены твоего дома. Слышно, как брат вторит твоему смеху — гудит, как золотой шмель.
Сальвадор! Друг мой!..
Мне одиноко в гостиной, но уйти не могу — меня опутал рисунок Сальвадора. Интересно, который час?.. Я бы не отказался от куска пирога.
Сальвадор?.. Нет, это не он... Это те женщины в трауре — заплаканные, запыленные: другие к нотариусу не ходят!
Так вот я и вспоминаю...
Передай от меня привет отцу.
Дон Сальвадор Дали-и-Куси
Фигерас, 16 января 1930 года.
Не знаю, осведомлены ли Вы о том, что я был вынужден изгнать своего сына из дома. Событие тяжелое для всех нас, но поступить иначе, не утратив достоинства, я не мог и принял это мучительное решение. На выставке в Париже сын дошел до немыслимой дикости — написал на одной из работ чудовищные слова: «Мне бывает приятно иногда плюнуть на портрет матери!» Я предположил, что он был пьян и не в себе, когда сделал это, и потребовал объяснений. Он же не только ничего не стал объяснять, но и снова оскорбил всех нас. Больше мне сказать нечего.
Он — несчастнейшее существо и не ведает, что творит. Притом — образцовый, бесстыжий негодяй. Полагает себя умнее всех, а сам даже грамоты не знает. Впрочем, Вам это известно лучше, чем кому бы то ни было.
Обнимаю и остаюсь Вашим другом —
Сальвадор Дали.
Д. Порт-Льигат, 15 апреля 1934 года.
Милый Лорчонок!
Мы с тобой могли бы сделать что-нибудь вместе, приезжай, поговорим обо всем, обсудим. Уверен, что мы позабавимся в лучшем виде, если повстречаемся вновь. Гала ужасно хочет познакомиться с тобой.
Л. Дорогой Сальвадор.
С моря дует нежный ветерок. В гостинице, где я обитаю, не видать ни стройной ножки, ни ладной щиколотки. Девушки с моря — глядят, а те, что с гор — требуют. Я живу анахоретом и в разговоры почти ни с кем не вступаю. Ну, разве что с официантами — всегда знаешь, как тебе улыбнутся и что скажут.
Сальвадор! Все вспоминаю тебя. Даже, кажется, слишком. Такое впечатление, что в руке у меня золотой. А разменять его не могу. И не хочу, сынок. Как вспомню, какая ты страхолюдина, так еще сильнее люблю.
Но важнее другое — не судьбы искусства
и не судьбы эпохи с ее канителью,
породнили нас общие поиски смысла.
Как назвать это — дружбою или дуэлью?.....Наша близость, что схожа с азартной игрою.